Глава 2
Эволюция образа Китая в СССР: брат-пролетарий или враг-ревизионист?
Большевистское мировоззрение и политика Москвы в Китае в 20-х — первой половине 30-х годов
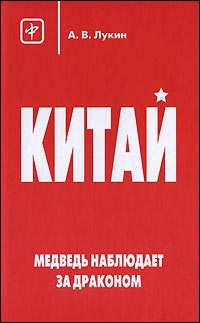 Пришедшие к власти в России в 1917 г. большевики принесли с собой совершенно новое мировоззрение. Они видели мир как арену решительной и окончательной борьбы за социализм, первой победой в которой стала русская революция. В рамках этой борьбы народы азиатских колоний и полуколоний рассматривались как союзники российского и западного, пролетариата, поскольку их общей целью была победа над «мировым империализмом». В. И. Ленин, стоявший во главе российских большевиков, ещё до 1917 г. развивал эту теорию в своих сочинениях об империализме. Империализм, по мнению лидера российских большевиков, с конца ⅩⅨ в. господствовал в наиболее развитых странах мира и являлся новым и последним этапом в развитии капитализма, непосредственно и неизбежно завершающимся социалистической революцией1.
Пришедшие к власти в России в 1917 г. большевики принесли с собой совершенно новое мировоззрение. Они видели мир как арену решительной и окончательной борьбы за социализм, первой победой в которой стала русская революция. В рамках этой борьбы народы азиатских колоний и полуколоний рассматривались как союзники российского и западного, пролетариата, поскольку их общей целью была победа над «мировым империализмом». В. И. Ленин, стоявший во главе российских большевиков, ещё до 1917 г. развивал эту теорию в своих сочинениях об империализме. Империализм, по мнению лидера российских большевиков, с конца ⅩⅨ в. господствовал в наиболее развитых странах мира и являлся новым и последним этапом в развитии капитализма, непосредственно и неизбежно завершающимся социалистической революцией1.
Исходя из этого подхода после прихода большевиков к власти Москва как центр мирового коммунистического движения начала оказывать помощь не только коммунистическим партиям Запада, но и «антиимпериалистическим» движениям в Азии. Помощь эта шла в основном по линии созданного в 1919 г. для координации мирового коммунистического движения Коммунистического Интернационала (Коминтерна). Необходимость такой политики уже в 1918 г. ясно разъяснил занимавший в то время должность народного комиссара по делам национальностей в большевистском правительстве И. В. Сталин: «Задача коммунизма — разбить вековую спячку угнетённых народов Востока, заразить рабочих и крестьян этих стран освобождающим духом революции, поднять их на борьбу с империализмом и лишить, таким образом, мировой империализм его „надёжнейшего“ тыла, его „неисчерпаемого“ резерва. Без этого нечего и думать об окончательном торжестве социализма, о полной победе над империализмом
»2.
Позднее, когда стало очевидно, что пролетариат развитых стран не торопится стать союзником российских коммунистов, и значит, победа всемирной революции откладывается, В. И. Ленин возложил ещё больше надежд на азиатские народы. В марте 1923 г., менее чем за год до своей смерти, он объяснял жизнеспособность западного капитализма эксплуатацией ресурсов Востока и предсказывал: «Исход борьбы зависит, в конечном счёте, от того, что Россия, Индия, Китай и т. п. составляют гигантское большинство населения. А именно это большинство населения и втягивается с необычайной быстротой в последние годы в борьбу за своё освобождение, так что в этом смысле не может быть ни тени сомнения в том, каково будет окончательное решение мировой борьбы. В этом смысле окончательная победа социализма вполне и безусловно обеспечена
»3.
Китай стал рассматриваться новыми правителями России в рамках общего курса на поиск союзников в борьбе с западным империализмом. 25 июля 1919 г., когда Красная Армия ещё вела бои с войсками А. В. Колчака, большевистское правительство выступило с декларацией «К китайскому народу и правителям Южного и Северного Китая», подписанной заместителем наркома по иностранным делам Л. М. Караханом (получила известность как «декларация Карахана»). В декларации, разъяснив новые принципы поддержки права наций на самоопределение и отказа от тайных договоров, пришедшие к власти руководители России напомнили, что «рабоче-крестьянское правительство… объявило уничтоженными все тайные договоры, заключённые с Японией, Китаем и бывшими союзниками, договоры, которыми царское правительство вместе с его союзниками насилием и подкупом закабалило народы Востока и главным образом китайский народ, для доставления выгод русским капиталистам, русским помещикам, русским генералам
»4. В документе предлагалось провести переговоры об аннулировании ряда договоров и о «возвращении китайскому народу всего того, что было отнято у него царским правительством самостоятельно либо заодно с японцами и союзниками
». Советская Россия отказывалась от получения «боксёрской контрибуции
», прав экстерриториальности. Во французском тексте декларации, направленном пекинскому правительству, содержалось также обещание передать Китаю без какой-либо компенсации КВЖД и все концессии, однако затем Народный комиссариат иностранных дел (НКИД) отказался от этого обещания, заявив, что текст телеграммы был неаутентичен, и предоставил официальный текст, в котором данный абзац отсутствовал5. Дух нового подхода к Китаю красноречиво выражен в заключительной части декларации: «Если китайский народ хочет стать, подобно русскому народу, свободным и избежать той участи, которую ему приготовили в Версале с целью обратить его во вторую Корею или во вторую Индию,— пусть он поймёт, что его единственный союзник и брат в борьбе за свободу есть русский рабочий и крестьянин и его Красная Армия
»6. В официальной ноте за подписью Л. М. Карахана от 27 октября 1920 г. китайскому МИДу НКИД подтвердил положения декларации 1919 г. и предложил текст российско-китайского соглашения7.
Теоретическая основа общего подхода большевиков к странам Востока была сформулирована в документах Ⅱ конгресса Коминтерна, проходившего в июле-августе 1920 г. в Петрограде и Москве. В принятых конгрессом «Тезисах по национальному и колониальному вопросам», составленных на основе предложений В. И. Ленина, говорилось о необходимости «вести политику осуществления самого тесного союза всех национально- и колониально-освободительных движений с Советской Россией, определяя формы этого союза сообразно степени развития коммунистического движения среди пролетариата каждой страны, или национально-освободительного движения в отсталых странах»8. Далее в документе указывалось, что в зависимости от уровня развития различных государств подход коммунистов к ним должен быть различен. Если в передовых капиталистических странах компартии должны бороться за установление «диктатуры пролетариата
» по крайней мере в нескольких из них, т. е. за непосредственный приход к власти в борьбе с буржуазными партиями, то по отношению к «государствам и нациям отсталым, с преобладанием феодальных или патриархально-крестьянских отношений
» ставилась задача оказывать поддержку революционно-освободительным (т. е. не обязательно коммунистическим) движениям, учитывая мнение местной компартии, если таковая имеется. Совместно с революционно-освободительным движением и опираясь на поддержку западноевропейского и коммунистического пролетариата (т. е. западноевропейских компартий и СССР), а внутри страны — на союз рабочих с крестьянами и «всеми эксплуатируемыми», организуя их в Советы) предполагалось вести борьбу с империализмом, т. е. политическим и экономическим господством развитых капиталистических держав, а также с реакционным духовенством, дворянством, крупными землевладельцами. Документ подчёркивал: «Коммунистический Интернационал обязан поддерживать национально-революционные движения в колониях и отсталых странах лишь с той целью, чтобы элементы будущих пролетарских партий, коммунистических не только по названию, во всех отсталых странах были группируемы и воспитываемы в сознании своих особых задач, задач борьбы с буржуазно-демократическими движениями внутри их нации; Коммунистический Интернационал должен вступать во временные соглашения, даже в союзы с буржуазной демократией колоний и отсталых стран, но не сливаться с ней, а безусловно сохранять самостоятельность пролетарского движения, даже в самой зачаточной его форме
»9.
Таким образом, конкретная политика в отношении этих движений ставилась в зависимость от уровня развития данного государства и степени развития там коммунистических организаций. Это, несмотря на ясный общий курс на союз с национально-революционными движениями в отсталых и зависимых государствах, обуславливало возможность различных интерпретаций и споров относительно тактики Коминтерна в каждой конкретной стране. Чем более развитым считалось данное государство, чем больший путь оно прошло на пути к капитализму и чем сильнее считалась в нём коммунистическая партия, тем более самостоятельной должна была быть её политика и тем активнее она должна была переходить от союза с «непролетарскими» слоями и их политическими организациями к борьбе с ними. В то же время и сами рекомендации Коминтерна были внутренне противоречивыми. С одной стороны, коммунистам в отсталых и колониальных странах предлагалось поддерживать национально-революционные движения, вступать в союзы или временные соглашения с буржуазной демократией, с другой стороны, сохранять самостоятельность в рамках этих союзов и воспитывать коммунистов в сознании задач по борьбе с этими движениями, т. е. сразу же начинать их подрыв изнутри. Как показала практика, такие союзы, в том числе и в Китае, не могли быть долговечными.
Естественно, что представители компартий восточных стран, стремившиеся отстоять право своих партий на самостоятельность, стремились преувеличить уровень развития своих стран и влияние в них собственных партий, т. е. занимали более «левые» позиции. Эта тенденция нашла отражение в другом документе, принятом на Ⅱ конгрессе Коминтерна,— «Дополнительных тезисах по национальному и колониальному вопросам»,— который был составлен на основе предложений индийского коммуниста М. Н. Роя и, несмотря на серьёзные поправки, сохранил некоторые «левые» тенденции. В «Дополнительных тезисах», специально посвящённых тактике Коминтерна в странах, «над которыми господствует капиталистический империализм
» (в качестве конкретных примеров приводятся Китай и Индия), ещё более чётко формулируется необходимость союза с национально-революционными силами в отсталых странах: «Уничтожение колониального владычества вместе с пролетарской революцией в метрополиях свергнет капиталистическую систему в Европе. Коммунистический Интернационал, следовательно, должен расширить сферу своей деятельности. Он должен установить связь с теми революционными силами, которые стремятся к свержению империализма в странах, угнетённых в политическом и экономическом отношении. Для того чтобы обеспечить окончательный успех мировой революции, необходимо совместное действие этих двух начал
»10.
Таким образом, революционное движение в отсталых и зависимых странах, наряду с коммунистическим движением в развитых странах, провозглашалось составной частью мировой революции. В документе говорилось о полезности в качестве первого шага к революции в колониях «использовать сотрудничество буржуазных национально-революционных элементов
». Однако сотрудничество это обусловливалось борьбой Коминтерна и соответствующих компартий против попыток буржуазных демократов руководить массовой борьбой «бедных и тёмных крестьян и рабочих за дело своего освобождения от всех видов эксплуатации
». В качестве основных задач ставились «развитие классового сознания рабочих масс колоний
», «создание непартийной организации крестьян и рабочих для того, чтобы повести их к революции и установлению Советской республики
». Предполагалось, что благодаря этой тактике «массы в отсталых странах смогут достичь коммунизма не через капиталистическое развитие, а под руководством классово сознательного пролетариата передовых стран
»11. Далее в документе подчёркивалось, что взаимоотношения Коминтерна с революционным движением в колониях должно осуществляться не напрямую, а через местные компартии или коммунистические группы, а революция в колониях, несмотря на то, что она «на своих первых этапах не будет коммунистической революцией
» и будет вынуждена поначалу проводить «много пунктов мелкобуржуазных реформ
» (например, раздел земли), должна с самого начала осуществляться под руководством «коммунистического авангарда
», т. к. только в этом случае «революционные массы будут идти по верному пути
»12.
Положения Ⅱ конгресса о стратегии в колониальных и зависимых странах получили дальнейшее развитие на Ⅳ конгрессе Коминтерна в декабре 1922 г., выдвинувшем лозунг «единого антиимпериалистического фронта
», действуя в котором рабочее движение «должно завоевать положение самостоятельного революционного фактора
». В рамках такого фронта пролетариат (т. е. компартия) должен поддерживать «такие частотные требования, как независимая демократическая республика, уничтожение всех феодальных прав и привилегий, уничтожение женского бесправия и т. д., поскольку в настоящее время соотношение сил не позволяет ему сделать осуществление своей советской программы задачей сегодняшнего дня
»13. Таким образом, единый фронт мог быть создан при определённых условиях: 1) признание партнёра «революционным
» или «национально-революционным
» движением, т. е. ведущим решительную борьбу с империализмом и колониализмом и остатками феодализма (проведение частичных требований); 2) признание его «демократическим
», т. е. допускающим легальную деятельность компартии, которая, между прочим, должна быть направлена на собственное укрепление, создание Советов и захват руководства в революционном движении (т. е. оттеснение союзника).
Позднее И. В. Сталин, указывая на возможность временного союза с буржуазией, следующим образом пояснял подход Коминтерна и коммунистических партий к вопросам революционного движения в колониальных и зависимых странах:
«Он состоит в строгом различении между революцией в странах империалистических, в странах, угнетающих другие народы, и революцией в странах колониальных и зависимых, в странах, терпящих империалистический гнёт других государств. Революция в империалистических странах — это одно, там буржуазия является угнетателем других народов, там она контрреволюционна на всех стадиях революции, там момент национальный, как момент освободительной борьбы, отсутствует. Революция в колониальных и зависимых странах — это нечто другое, там гнёт империализма других государств является одним из факторов революции, там этот гнёт не может не задевать также и национальную буржуазию, там национальная буржуазия на известной стадии и на известный срок может поддержать революционное движение своей страны против империализма, там национальный момент, как момент борьбы за освобождение, является фактором революции»14.
Китай рассматривался российскими большевиками как важное поле битвы с империализмом из-за его размера и географической близости к России. Как выразился руководитель Советской дипломатической миссии в Китае в 1922—1924 гг. А. А. Иоффе, это был «величайший козырь в нашей мировой игре
»15.
Коммунистическая партия Китая (КПК) при активном участии Коминтерна была создана лишь после Ⅱ конгресса Коминтерна (и при активном его содействии), в конце июля — начале августа 1921 г. на нелегальном съезде в Шанхае. На тот момент вся её численность составляла 53 человека, которые были вынуждены действовать нелегально. Даже самым «левым» было ясно, что для превращения КПК в действенную силу нужны союзники. Их поисками занимались, в частности, представитель Коминтерна, в Китае голландский коммунист Г. Маринг и А. А. Иоффе, которые рекомендовали на эту роль Гоминьдан под руководством Сунь Ятсена. Комиссия Коминтерна выпустила инструкцию о вступлении членов КПК в индивидуальном порядке в Гоминьдан и работе внутри него. Инструкция была одобрена в конце августа 1922 г. на заседании ЦИК КПК в Ханчжоу. В отчёте о первых результатах сотрудничества КПК с Гоминьданом Г. Маринг указывал на открывшиеся более широкие возможности для легальной агитации и забастовочного движения16. 4 января 1923 г. Политбюро ЦК РКП(б) приняло решение одобрить политику А. А. Иоффе, направленную «на всемерную поддержку партии Гоминьдан
», и выделить средства на эту политику17. Необходимость единого фронта с Гоминьданом чётко объясняется в принятой буквально через несколько дней, 12 января, резолюции Исполкома Коминтерна. В ней отмечается, что «центральной задачей для Китая является национальная революция против империалистов и их внутренних агентов
» и что «рабочий класс непосредственно заинтересован в разрешении этой национально-революционной проблемы, но ещё недостаточно дифференцирован как совершенно независимая социальная сила
», а «независимое рабочее движение в стране ещё слабо
»18. В связи с этим китайским коммунистам необходимы союзники, лучшим из которых является Гоминьдан — единственная серьёзная национально-революционная группировка в Китае, опирающаяся «частью на либерально-демократическую буржуазию и мелкую буржуазию, частью на интеллигенцию и рабочих
»19. Членам КПК предлагалось оставаться внутри Гоминьдана, но не терять «специфического политического облика КПК
», сохранять собственную организационную структуру и «выступать под своим собственным знаменем, избегая, однако, при этом конфликтов с национально-революционным движением
»20.
Задавая общие идеологические рамки подхода к различным политическим силам в Китае, документы Коминтерна давали довольно широкий простор для различных интерпретаций в этих рамках. Ряд новых документов Коминтерна, Политбюро ЦК ВКП(б), статьи и письма советских и коминтерновских активистов, занимавшихся проблемами Востока и Китая (значительная часть которых была опубликована лишь в последнее годы), показывают, что и в Коминтерне, и в руководстве СССР и РКП(б) на протяжении 20-х гг. велись острые дискуссии по вопросу, каких именно союзников и как использовать в Китае, в какой степени опираться на КПК, в какой — на другие силы. Дискуссии эти до середины 20-х гг. были довольно свободными, т. к. в тот период не считалось, что кто-либо в РКП(б) или Коминтерне обладает монополией на истину. Конечно, Политбюро ЦК РКП(б) и Коминтерн принимали решения, но их различные исполнители, в частности представители Коминтерна, НКИД, РКП(б), советские военные советники в Китае часто интерпретировали их в соответствии со своими собственными взглядами, тем более что, действуя в оторванности от Москвы, они часто вынуждены были принимать решения самостоятельно.
С более общей точки зрения существовавшие в Москве разногласия по поводу Китая можно назвать тактическими. Тем не менее они постепенно привели к тому, что китайский вопрос стал одним из основных предметов борьбы между ведущими теоретиками и практиками коммунистического движения, превратившись к 1927 г. в серьёзный пункт разногласий между сталинским большинством и левой оппозицией в ВКП(б). Размер Китая, его соседство с Россией и размах общественного движения в этой стране заставили российских коммунистов рассматривать Китай как важнейший полигон для реализации ленинской концепции национально-демократической революции.
Заметив эти разногласия между отдельными представителями Коминтерна и Москвы в Китае, А. Уайтинг в известной книге «Советская политика в Китае в 1917—1924 гг.» пришёл к выводу о наличии различий в политике разных ведомств и даже о существовании различных ведомственных политик, на основании чего построил целую теорию осуществления внешнеполитического курса21. Доступные на сегодняшний день документы не дают основания для подтверждения выводов А. Уайтинга. В рассматриваемый период можно скорее говорить не о разногласиях между ведомствами, а об идеологических разногласиях внутри коммунистического движения. Разногласия между «левыми», призывавшими к большей опоре на КПК, к её скорейшему разрыву с Гоминьданом, и «правыми» (группа Сталина — Бухарина), считавшими, что КПК, будучи недостаточно сильной, до поры до времени должна работать в союзе с другими группами, существовали как внутри Коминтерна, так и внутри РКП(б). Более того, многие лидеры большевиков и работники китайского направления на протяжении 20-х гг. меняли свои взгляды22.
В то же время с организационно-кадровой точки зрения политика в отношении Китая в Москве была хорошо скоординирована: высшим органом принятия решений было Политбюро ЦК РКП(б), его решения практически без какого-либо противодействия поддерживались Коминтерном (благодаря практически безграничному влиянию российских большевиков на международное коммунистическое движение) и, естественно, советской дипломатией и военными специалистами. Кроме того, порой трудно было различить, представителем какого именно органа является тот или иной посланец Москвы в Китае. Говорить о том, что сотрудники НКИД проводили политику, отличную от работников Коминтерна, нет никаких оснований. Например, хотя М. М. Бородин в 1923—1927 гг. выступал в роли главного политического советника ЦИК Гоминьдана, Л. М. Карахан рекомендовал его Сунь Ятсену как представителя советского правительства и личного представителя самого себя, и формально М. М. Бородин был прикреплён к советской дипломатической миссии в Пекине. В то же время решение направить М. М. Бородина в Китай было принято на Политбюро и подписано И. В. Сталиным (в то время — секретарём ЦК РКП(б)), и одновременно М. М. Бородин являлся представителем Коминтерна. Подобные ситуации не смущали советских и иностранных коммунистических активистов, т. к. все они видели в Коминтерне, Советском государстве и РКП(б) различные ветви единого механизма, работающего на победу мировой революции.
Представители Коминтерна (Г. Маринг, Г. Н. Войтинский, С. А. Далин, М. М. Бородин и др.), советские дипломаты (А. А. Иоффе, Л. М. Карахан, И. Л. Юрин, А. К. Пайкес), другие сотрудники дипломатических миссий в Китае, будь то российских, Дальневосточной Республики (ДВР) или позднее советских, а также советские военные советники (прежде всего В. К. Блюхер, а также В. К. Путна, В. М. Примаков, А. В. Благодатнов, М. Г. Ефремов, И. Я. Разгон и др.) находились в постоянном контакте друг с другом и всегда информировали всё высшее руководство в Москве: Политбюро, ИККИ, НКИД. Кроме того, те, кто реально руководил Коминтерном (члены руководства от РКП(б)), одновременно входили в высшее партийное руководство, а НКВД и Реввоенсовет прямо подчинялись Политбюро. Так, в Президиум ИККИ до 1926 г. входили члены Политбюро Г. Р. Зиновьев (Председатель Коминтерна), И. В. Сталин, Н. И. Бухарин, член ЦК Д. 3. Мануильский и член ЦКК И. А. Пятницкий (секретарь ИККИ, член ЦК с 1927 г.). Членами и кандидатами в члены ИККИ, кроме вышеперечисленных, были также члены Политбюро Л. Д. Троцкий (председатель Реввоенсовета и нарком по военным и морским делам до 1925 г.) и А. И. Рыков (председатель СНК). Больше того, в марте 1925 г. для координации китайской политики была создана специальная комиссия Политбюро (Киткомиссия), в которую вошли представители самых различных ведомств. В её состав были включены М. В. Фрунзе (председатель, кандидат в члены Политбюро, председатель Реввоенсовета), Г. В. Чичерин (член ЦК, нарком по иностранным делам), В. М. Молотов (кандидат в члены Политбюро, секретарь ЦК), Ф. Ф. Раскольников (заведующий Восточным отделом исполкома Коминтерна). Позднее в комиссию были включены И. С. Уншлихт (кандидат в члены ПБ, заместитель председателя РВС, заместитель наркома по военным и морским делам, стал председателем комиссии после смерти М. В. Фрунзе в октябре 1925 г. ), А. С. Бубнов (секретарь ЦК, начальник Политуправления РККА), Я. К. Берзин (начальник разведуправления штаба РККА), Г. Я. Сокольников (нарком финансов), Г. Г. Ягода (заместитель начальника ОГПУ НКВД), И. Я. Пятницкий (секретарь ИККИ)23.
Таким образом, наличие разногласий определялось вовсе не отсутствием координации между ведомствами и не самостоятельной ведомственной политикой, которая была невозможна, а различными подходами в рамках самого коммунистического движения. Естественно, что в Коминтерне, главной задачей которого считалось содействие росту коммунистического движения, концентрировалось больше сторонников самостоятельности КПК и критиков сотрудничества с Гоминьданом, т. е. «левого» подхода. «Левые» настроения были особенно популярны среди самих членов восточных компартий, в том числе КПК, и стимулировались ими. Из-за этого Коминтерн часто принимал противоречивые решения в зависимости от того, чья линия брала верх. Так, на Ⅳ конгрессе, проходившем в Москве в декабре 1922 г., китайским коммунистам рекомендовалось действовать «в качестве застрельщиков национального объединения Китая на демократической основе
» и поддерживать только те группы в Китае, которые, «давая рабочему классу полную свободу развития и организации, откажутся от союзов с контрреволюционными силами внутри и вне страны
»24. Сунь Ятсен и его правительство такой силой не признавались и обвинялись в попытках заключить союз с «вассалом японского империализма
» и «определённым реакционером
» диктатором Северо-Восточного Китая Чжан Цзолинем против генерала У Пэйфу, который в то время контролировал центральную часть страны25. Эта позиция, возможно, связана со стремлением Москвы в 1922 г. поставить на У Пэйфу для борьбы с Чжан Цзолинем и переключить Сунь Ятсена на союз с У Пэйфу26. В 1923 г. с критикой позиции Г. Маринга по поддержке Гоминьдана выступил заведующий восточным отделом ИККИ Г. И. Сафаров, писавший в Политбюро о «нецелесообразности в дальнейшем консервировать нашу партию в рамках Гоминьдана
»27. Довольно скептическую позицию занимали Г. Н. Войтинский, К. Б. Радек (член ЦК до 1924 г. и секретарь ИККИ до 1923 г.). Однако в ИККИ были и сторонники союза с Гоминьданом (Н. И. Бухарин, Ф. Ф. Раскольников, Г. Маринг).
В то же время разногласия в Коминтерне, а затем и в Политбюро всё же были разногласиями между коммунистами. Это не означает, что они были несущественными. Многие коммунисты впоследствии заплатили жизнью за «неправильные мысли». Однако разногласия эти существовали в рамках общего идеологического поля. Лишь полное непонимание этой идеологической основы советской внешней политики в данный период может привести к выводам о том, что она фактически вернулась к традиционному российскому империализму и экспансионизму.28 Приоритетной целью политики как Советского государства, так и Коминтерна в Китае было стимулирование там революции как составной части мировой революции, остальные задачи были подчинены ей. Эту цель разделяли представители всех направлений большевизма, как «левые», так и «правые», о чём и те, и другие ясно заявляли. Например, «правый» Н. И. Бухарин на заседании ИККИ в январе 1923 г. говорил: «Основной задачей в Китае, на которую мы должны ориентироваться, является национальная революция. С этим связаны различные внешнеполитические вопросы
»29.
Национальная революция в Китае, как и в других местах, должна была нанести удар по мировому империализму. Интересны с этой точки зрения рассуждения А. А. Иоффе в совершенно секретной (т. е. предназначенной отнюдь не для пропаганды} телеграмме Л. М. Кержаку для передачи И. В. Сталину, отправленной 30 августа 1922 г., в которой руководитель миссии обосновывает необходимость активизации деятельности в Китае: «Место для нас здесь чрезвычайно благоприятное. Борьба с мировым капитализмом имеет огромный резон и громадные шансы на успех. Веяние мировой политики чувствуется здесь чрезвычайно сильно, гораздо больше, например, нежели в Средней Азии, которой Ленин придавал такое значение. Китай, бесспорно, узел международных конфликтов и наиболее уязвимое место международного империализма, и мне думается, что как раз теперь, когда империализм переживает кризис в Европе и там надвигается революция, нанести империализму удар в самое слабое его место было бы очень важно
»30.
Позднее руководство ВКП(б), воодушевлённое победами гоминьдановской армии, стало рассматривать Китай как ключевую арену мировой революции, даже более важную, чем Европа, где с буржуазией боролись собственно компартии. Так, в марте 1927 г. Н. И. Бухарин говорил о ситуации в Китае: «Здесь мы имеем дело с войной, которая внедряется во всю мировую ситуацию… Я думаю, многие острые вопросы, такие как в Германии вопрос борьбы с фашизмом, должны несколько отступить на второй план перед лицом этого вопроса, ведь это — поворотный пункт во всей мировой истории
»31.
Мнение о том, что «борьба с империализмом» стала лишь ширмой для возрождения старой российской империалистической политики захвата сфер влияния в Китае и борьбы с аналогичным курсом других держав, не выдерживает критики. Показательно, что именно А. А. Иоффе, который, по мнению сторонников этой точки зрения Б. Эллмана32, был одним из проводников политики большевистского экспансионизма, вступил в дискуссию с Политбюро по поводу указания последнего считать «недопустимым выводить непосредственные директивы при переговорах с Китаем из общей декларации 1919—1920 гг.
» (что фактически означало отказ выполнять «декларацию Карахана» в полном объёме)33. В письме руководству партии от 27 сентября 1922 г. А. А. Иоффе писал: «Я не понимаю, что значит указание на невозможность выводить конкретные директивы из наших деклараций 19 и 20 гг.… Конечно, при некоторой „ловкости рук“ можно эти декларации представить так, чтобы от них ничего не осталось. Но я полагаю, что это было бы гибелью нашей политики в Китае, а, в конечном счёте, началом нашей гибели вообще, ибо, став во внешней политике самыми обыкновенными империалистами, мы в гораздо большей степени перестали быть ферментом мировой революции, чем если сдадим даже важные экономические позиции во внутренней политике
»34.
Документ этот, безусловно, показывает, что опасения относительно возвращения к старой политике существовали и внутри большевистской партии. Их, в частности, в связи с конфликтом вокруг КВЖД в 1926 г. высказывал Г. В. Чичерин. В письме Л. М. Карахану он отметил: «Главная причина наших неудач повсюду на Востоке есть противоречие между нашей исторической сущностью и нашими фактическими империалистическими методами… когда с одной стороны, мы выступаем с заявлениями, вытекающими из нашей исторической сущности, о солидарности с угнетёнными народами, а с другой стороны, на практике проводим линию в духе царских сатрапов… нельзя же иметь одну политику в Кантоне и Пекине и диаметрально противоположную в Харбине
»35. 18 марта того же года Политбюро приняло решение отстранить от работы на КВЖД работников, «скомпрометировавших себя великодержавностью и шовинизмом
», и впредь вести там «советский курс
»36.
В то же время это не означает, что сторонники более прагматичной линии были традиционными империалистами или, как пишет А. В. Панцов, вели дело «к замене интернационализма „красным“ великодержавным гегемонизмом
»37. Небезынтересно, что на сомнения А. А. Иоффе ответил не кто-либо из будущих представителей «правых», но его личный друг, сторонник перманентной революции Л. Д. Троцкий, в тот период член Политбюро. Л. Д. Троцкий писал А. А. Иоффе:
Как хотите, но мне и сейчас совершенно не ясно, почему, собственно, отказ от империализма предполагает отказ от наших имущественных прав. Китайско-Восточная железная дорога была, бесспорно, орудием империализма, поскольку она была государственной собственностью на китайской территории. Поскольку же дорога переходит в руки Китая, она есть огромная хозяйственно-культурная ценность. В этом смысле мне совершенно непонятно, почему китайский крестьянин должен иметь дорогу за счёт русского крестьянина. Вы говорите, что Китай всё равно платить не может. Это бесспорно. Но в случае стабилизации государственного режима в Китае он сможет получить заём скорее, чем Советская республика. Мы можем и должны помочь Сунь Ятсену стабилизировать в Китае внутренний режим. Почему же Сунь Ятсен или кто другой не может в этом случае частично и постепенно возмещать нам наши расходы по Китайско-Восточной дороге, которой китайский народ будет пользоваться? Почему это империализм?.. Позвольте Вам напомнить, дорогой Адольф Абрамович, что Россия тоже очень бедна и совершенно не в силах оплачивать расположение к ней колониальных и полуколониальных народов материальными жертвами… Та часть симпатий, которая приобретается материальными подачками, очень неустойчива, ибо враги наши могут давать гораздо большие подачки. Те же симпатии, которые приобретаются нашей, по существу, освободительной международной политикой и совпадают с национально-демократическими стремлениями угнетённых народов, устойчивее и прочнее, хотя и медленнее завоевываются.38
В мыслях Л. Д. Троцкого, предназначенных не для пропаганды, т. к. они изложены в секретном, к тому же дружеском письме, высказано несколько важнейших аргументов «интернационалиста» в споре с «интернационалистом». Во-первых, Л. Д. Троцкий признавал собственность одного государства на территории другого «империализмом
» и считал необходимым передать её Китаю, однако не бесплатно, а за компенсацию труда, затраченного «российскими крестьянами
». Во-вторых, материальное заигрывание с угнетёнными народами он считал малоэффективным, главным было проведение правильной политики, направленной на поддержку борьбы этих народов против империализма, за государственное объединение. Поддерживая союз с Гоминьданом и его руководством при осуществлении национальной революции (позиция, от которой Л. Д. Троцкий вскоре отказался), он заботился о мировой революции, а не об эгоистических интересах России. Л. Д. Троцкий писал в апреле 1924 г., когда он ещё был согласен с официальной линией Политбюро по китайскому вопросу:
Нет никакого сомнения в том, что если китайской партии Гоминьдан удастся объединить Китай под национально-демократическим режимом, то капиталистическое развитие Китая пойдёт вперёд семимильными шагами. А это всё подготовит мобилизацию неисчислимых пролетарских масс, которые будут вырываться из доисторического полуварварского состояния и будут ввергаться в фабричный котёл индустрии… Национальное движение на Востоке есть прогрессивный фактор истории… Нужно уметь сочетать восстание индусских крестьян, стачку носильщиков в портах Китая, политическую пропаганду буржуазных демократов Гоминьдана, борьбу корейцев за независимость, буржуазно-демократическое возрождение Турции, хозяйственную и культурно-воспитательную работу в Советских республиках Закавказья, нужно уметь всё это идейно и практически связать с работой и борьбой Коммунистического Интернационала в Европе.39
Значение революционного движения здесь рассматривается исключительно с точки зрения мировой революции как фактор, содействующий основной победе в Европе. С точки зрения российских национальных интересов политику поддержки национального объединения Китая, «стабилизации государственного режима
» вряд ли можно признать разумной: зачем иметь мощную державу на границе? Гораздо выгоднее поощрять раздробленность в Китае, используя одни группировки для давления на другие. Однако курс Москвы был основан на идеологических постулатах: Китай, объединённый «прогрессивным» национально-революционным движением, должен был стать естественным союзником советского пролетарского государства. Кроме того, такая победа создала бы условия для ускоренного развития пролетариата и его партии (КПК) в Китае. А китайские коммунисты, которых Коминтерн и его активисты во всех секретных документах называют «мы
», были даже не союзниками, а рассматривались вместе с коммунистами других стран как часть единого целого.
Обосновывая правильность такой позиции в письме от 26 января 1923 г. в Коминтерн, Политбюро и Совнарком, А. А. Иоффе писал: «В данное время Китай переживает один из наиболее решающих моментов своей истории… никогда ещё национально-объединительное и национально-освободительное движение в Китае не было так сильно и победа его так близка. Если национальная революция в Китае победит теперь только благодаря нашей помощи, это будет означать именно, что мы положили мировой империализм на обе лопатки и что мы во всём мире являемся сторожем национально-освободительной борьбы и национально-колониальной революции. Если в Китае теперь победа национальной революции не будет иметь места только ввиду нашего отказа в помощи, это будет означать, что империализм гораздо сильнее нас, что он нас, а не мы его побеждаем и что поэтому национально-колониальной революции не на кого рассчитывать… Как бы ни прекрасна и сильна была наша Красная армия и какой бы опорой она нам не была,— наша основная сила всё-таки в том, что мы — авангард мировой революции, подобно Самсону, становившемуся слабым ребёнком без своих волос, мы без революции или вне её теряем всю свою силу
»40.
Именно поэтому Москва на протяжении 20-х гг. искала себе «прогрессивные» силы в Китае и пыталась создать из них комбинацию, способную объединить страну, ставя то на союз Сунь Ятсена с У Пэйфу, то на его альянс с Фэн Юйсяном и в конце концов, убедившись, что Гоминьдан способен объединить страну в одиночку, обратила всё внимание на него. Большевики — сторонники всемерного укрепления СССР — также аргументировали свою позицию интересами мировой революции. А. В. Панцов приводит знаменитые слова И. В. Сталина из выступления 1927 г. о необходимости защиты интересов СССР как свидетельство его «национал-коммунизма
», того, что советский диктатор видел в пролетарских переворотах за рубежом лишь средство для усиления позиции СССР в глобальной политике: «Революционер тот, кто без оговорок, безусловно, открыто и честно, без тайных военных совещаний готов защищать, оборонять СССР, ибо СССР есть первое в мире пролетарское государство, строящее социализм. Интернационалист тот, кто безоговорочно, без колебаний, без условий готов защищать СССР потому, что СССР есть база мирового революционного движения, а защищать, двигать вперёд это революционное движение невозможно, не защищая СССР
»41. Если рассмотреть это высказывание в контексте эволюции большевистских представлений, то окажется, что интерпретация А. В. Панцова слишком поверхностна. Ключом к его пониманию являются слова «мировое революционное движение
». И. В. Сталин подразумевает необходимость укрепления СССР именно как его базы, а не как национального государства. Хотя в данном случае И. В. Сталин высказался достаточно резко, истинное значение его слов по сути не сильно отличается от позиции лидеров «левого крыла» (Л. Д. Троцкого и Г. Е. Зиновьева) до того, как они оказались в оппозиции. Л. Д. Троцкий, например, возглавляя Красную Армию во время Гражданской войны, занимался именно этим: укреплял Советскую Россию как базу мировой революции.
Высказывание И. В. Сталина по сути не противоречит призыву Ⅳ конгресса Коминтерна (где, по крайней мере по восточному вопросу, верх взяли «левые»), провозгласившего: «Разъяснение широким трудящимся массам необходимости союза с международным пролетариатом и советскими республиками является одной из важнейших задач тактики единого антиимпериалистического фронта. Колониальная революция может победить и отстоять свои завоевания только вместе с пролетарской революцией в передовых странах
»42. Необходимо лишь учитывать, что пролетариат «передовых стран
» не упоминается И. В. Сталиным по двум причинам: формальной (доклад посвящён обороне СССР) и временной (И. В. Сталин говорит на пять лет позже, когда стало ясно, что мировая революция «запаздывает» и роль СССР как революционной базы ещё более увеличивается). В этой обстановке интересы СССР как основной базы мировой революции, с точки зрения большевиков полностью совпадали с интересами трудящихся всего мира как в развитых, так и в зависимых странах и, исходя из отдалявшейся перспективы мировой революции, должны были защищаться в первую очередь.
Интересы мировой революции в 20-е гг. были основой подхода к любой проблеме внешней политики, в том числе и в области советско-китайских отношений. Например, высказывая сомнение в курсе на поддержку движения за независимость Монголии, проводимом Г. В. Чичериным, А. А. Иоффе называл её «принципиально правильной
», но «тактически неправильной
». В телеграмме Г. В. Чичерину и И. В. Сталину он пояснял: «Конечно, мы поддерживаем маленький народ против насилия большого, но если монголы, борьба которых не имеет никакого резонанса, и китайцы, борьба которых имеет огромный резонанс во всём мире, то вряд ли из-за двух миллионов монгол[ов], не имеющих никакого значения в мире, стоит портить отношения… с четырьмястами миллионами китайцев, играющих огромную роль
»43. Таким образом, по мнению А. А. Иоффе, хотя теоретически правильно поддерживать малую нацию в борьбе за независимость, с точки зрения интересов мировой революции важнее не портить отношения с более важным революционным движением в Китае. Москва в конечном счёте поддержала монголов, частично исходя из реальных интересов безопасности Советского государства (в Монголии укрылись остатки Белых сил), но частично из теоретических соображений, которые сыграли немалую роль. Так, по мнению Г. В. Чичерина, движение за независимость Монголии впервые в мире привело к народной революции в громадной стране «со скудным двухмиллионным населением
». В результате там было создано «хорошее демократическое народное правительство первобытной национальности
», которое «пустило глубокие корни в массах, оно удачно борется с теократизмом и с феодальными князьями…
»44. Исходя из этого подхода монгольское движение за независимость было «революционным», т. е. готовым проводить правильные (с точки зрения большевистской теории) социальные реформы, а официальное правительство Китая — «реакционным», поэтому отдать ему Монголию значило передать её территорию в лагерь реакции, сузить территориальную базу мировой революции.
Та же аргументация часто применялась и в отношении КВЖД и других вопросов российской собственности в Китае. Да, Москва отошла от декларации Л. М. Карахана и других ранних обещаний, данных, когда власть большевиков висела на волоске и они не очень думали о практической внешней политике. Но этот отход не означал перехода к империализму. Как и в случае с Монголией, Г. В. Чичерин и Л. М. Карахан приводили две причины: интересы Советской России как базы мировой революции и тот факт, что китайское правительство не было революционным. Так, уже в 1918 г. в инструкции международным отделам краевых Совдепов, подписанной Г. В. Чичериным и Л. М. Караханом, утверждалось, что «нынешнее пекинское правительство не является выразителем воли китайского народа и ведёт борьбу с поднявшим восстание против реакционного Севера народом Южного Китая, образовавшим Федеративную Республику
»45. Позже, когда Москва изменила свой подход к КВЖД, Л. М. Карахан объяснял, что Москва не могла отказаться от неё, т. к. китайское правительство было ненадёжным и не могло обеспечить российские интересы (беспошлинная перевозка товаров, неиспользование территории КВЖД антисоветскими элементами), даже если бы оно и дало соответствующие заверения. Но приводилась и ещё одна причина: китайское правительство было националистическим, и поэтому «из-за прекрасных глаз китайских националистов мы не можем отдать им Китайско-Восточной дороги, которая стоит русскому народу колоссальных средств
»46. С точки зрения большевиков, укрепившихся у власти в Москве и думающих об интересах мировой революции, передать безвозмездно российскую собственность в Китае в руки «реакционного» правительства — не значит передать её в руки китайского народа, больше того, это может лишь укрепить китайскую и мировую реакцию. Отдать её можно лишь революционному, а ещё лучше «пролетарскому» коммунистическому режиму (что и было сделано после 1949 г.).
Приводимые А. В. Панцовым высказывания В. И. Ленина 1920 г. о необходимости «подчинения интересов пролетарской борьбы в одной стране интересам этой борьбы во всемирном масштабе
» и «способности и готовности со стороны нации, осуществляющей победу над буржуазией, идти на величайшие национальные жертвы ради свержения международного капитала
»47 также принципиально не противоречат позиции И. В. Сталина. С точки зрения правящего большевистского режима борьба СССР с империализмом во всемирном масштабе, массированная финансовая и военная помощь революционным движениям Китая (и не только Китая) как раз и означала «величайшие национальные жертвы
» и «подчинение интересам борьбы во всемирном масштабе
». В «Тезисах по национальному и колониальному вопросам», принятых Коминтерном в 1920 г., в которые вошли слова В. И. Ленина, также подчёркивается, что «все события мировой политики сосредоточиваются неизбежно вокруг одного центрального пункта, именно: борьбы всемирной буржуазии против Советской Российской республики, которая должна группировать вокруг себя неминуемо, с одной стороны, советские движения передовых рабочих всех стран, с другой стороны, все национально-освободительные движения колоний и угнетённых народностей…
»48.
Если сравнить аргументацию сталинистов и «национал-социалистов» в Германии или сторонников экспансии царской России (например, Н. А. Куропаткина), то будет ясно, что все они исходили из совершенно различных посылок, поэтому определения типа «национал-коммунизм» или «красный (в смысле „советский“) великодержавный гегемонизм» здесь явно не работают. Хотя в мессианском характере идей российского экспансионизма и советского революционного подхода можно найти элементы преемственности, следует с крайней осторожностью относиться к выводам о том, что источником большевизма были традиционные российские идеи или что большевизм был не более чем идеологическим прикрытием для российской имперской политики. В действительности внешняя политика большевиков имеет глубокие идеологические корни, в значительной степени мессианские. Корни сталинизма лишь отчасти лежат в российской традиции, не менее важным его источником является марксизм в русской интерпретации. Поэтому определять сталинизм как «национал-коммунизм» (по аналогии с национал-социализмом) было бы ошибкой.
С доктринальной точки зрения сталинизм во внешней политике в рассматриваемый период был скорее вынужденной реакцией большевистской системы представлений на факт «запаздывания» мировой революции. В этой обстановке необходимо было укреплять базу мировой революции в СССР, одновременно пытаясь стимулировать её за рубежом, что и делалось. Альтернативой было бы признание невозможности дождаться мировой революции, находясь у власти в одной стране, но это было бы уже, согласно большевистской терминологии, полным «пораженчеством», против которого В. И. Ленин активно восставал ещё в период переговоров о Брестском мире. Естественно, у сталинской позиции была социальная основа, пришедший к власти аппарат был заинтересован в повышении роли СССР на мировой арене. Однако едва ли верно, что для нового режима идеология не играла никакой роли и использовалась лишь для сокрытия целей по созданию «красной империалистической» России. Сталинская версия большевизма была предсказуемым и логичным «развитием» ленинизма и не противоречила большевистской идеологии, большевистскому сознанию.
Это, конечно, не означает, что сдвиг акцентов в пользу СССР поддерживали все большевики. Дискуссия между сторонниками большего и меньшего акцента на зарубежную помощь или укрепление «советской базы мировой революции» была крайне остра, но это был спор не между истинными большевиками-интернационалистами и перекрасившимися империалистами, а скорее между более прагматичной позицией большевиков, стоящих у власти, и идеалистов, властью не отягощённых, причём обе тенденции прекрасно укладывались в общие рамки большевистской системы представлений, естественно развивавшейся в связи с изменяющейся ситуацией. Не случайно, как показывает А. В. Панцов, позиция Л. Д. Троцкого, Г. Е. Зиновьева и Л. Б. Каменева «левела» по мере их перехода в оппозицию, причём до степени отрицания их прошлых взглядов. Оппозиция искала внешнеполитический вопрос, по которому можно было подвергнуть критике сталинско-бухаринское большинство, и нашла его в подходе к китайской революции.
В результате временного совпадения обострения внутриполитической борьбы в Китае и раскола в ВКП(б) китайский вопрос стал одной из важнейших арен борьбы между оппозицией и большинством. Активисты и руководители ВКП(б), дискуссия между которыми по китайской политике до 1927 г. велась в рамках общепартийного курса, причём многие меняли свою позицию или занимали различные позиции по различным аспектам этой политики, стали концентрироваться в двух чётко противостоящих друг другу лагерях.
Открытая борьба между большинством и оппозицией по китайскому вопросу началась в марте 1927 г. и постепенно приняла формы крайне жёсткие, вплоть до уличных демонстраций и весьма резких словесных дуэлей на высоких партийных собраниях (где китайский вопрос был, конечно, лишь одним из многих, хотя и весьма заметным пунктом разногласий). Однако, несмотря на фатальные последствия для многих участников, спор собственно по Китаю вёлся в весьма узких рамках большевистско-коминтерновской идеологии. Это был не спор между интернационалистами и националистами (и большинство, и меньшинство выдвигали интернационалистические аргументы), но между двумя тактическими подходами к китайской революции. Согласно большевистской доктрине классовой борьбы, общество колониальной или зависимой страны должно было состоять из следующих классов: 1) пролетариат и трудовое крестьянство (арендаторы); 2) мелкая буржуазия: крестьяне-собственники мелких наделов земли, мелкие предприниматели и торговцы; 3) национальная буржуазия; 4) компрадорская (связанная с империалистическим капиталом) буржуазия и остатки феодальных и патриархальных классов (помещики, реакционное духовенство и т. п.). Вопрос о том, на кого должны ориентироваться в данной стране Коминтерн и местная компартия (если таковая имелась), по теории зависел от уровня развития и политической позиции этих классов. Считалось, что крайне отсталые страны далеки от антибуржуазной коммунистической революции, в них первоначально должно победить национально-демократическое движение под руководством или с участием национальной буржуазии. Такая революция нанесёт удар империализму (т. е. изгонит колониальные западные державы), уничтожит пережитки феодализма и создаст условия для развития пролетариата и дальнейшего перерастания революции в коммунистическую. На первом этапе Коминтерн и местная компартия должны поддерживать такое буржуазное движение как исторически прогрессивное. Но всё менялось, если страна признавалась более развитой, близкой к капиталистической стадии, без значительных пережитков феодализма. Тогда революция в ней должна была быть направлена уже не только против империализма, но и местной буржуазии, а возглавить её необходимо было пролетариату во главе со своей партией (возможно, в союзе с мелкой буржуазией и крестьянством).
Исходя из этих соображений понятно, насколько большую роль играли результаты наложения классовой схемы на реалии китайского общества и политики, в частности, признавались ли данная партия или данный милитарист представляющими интересы буржуазии, мелкой буржуазии, империализма или пролетариата. «Левые», обвинявшие И. В. Сталина в предательстве КПК и «сдаче» Китая буржуазной реакции, основывали свои претензии на двух положениях: 1) Китай — страна сравнительно развитая, близкая к капиталистической стадии или даже капиталистическая; 2) Гоминьдан — партия реакционной буржуазии, предавшая революцию. Первую позицию в наиболее радикальной форме с некоторого времени отстаивали К. Б. Радек и Л. Д. Троцкий. К. Б. Радек (в то время ректор Университета трудящихся Китая им. Сунь Ятсена), например, уже осенью 1926 г. пришёл к выводу, что в Китае эпоха феодализма отошла в прошлое, о его остатках в 20-е гг. ⅩⅩ в. уже говорить нельзя и что эксплуататорский класс в китайской деревне является буржуазным49. Л. Д. Троцкий же в июне 1927 г. сделал запись о том, что в Китае сосуществуют все экономические уклады «с явным всё возрастающим преобладанием новейших капиталистических отношений
»50. События 20 марта 1926 г. в Гуанчжоу, когда Чан Кайши потеснил у руководства Гоминьданом коммунистов и советских советников, и в ещё большей степени раскол в Гоминьдане и последующий разрыв между «левым» Гоминьданом в Ухане и коммунистами укрепили их в этом мнении, т. к. (по разным версиям) «буржуазный» или «мелкобуржуазный» Гоминьдан, защищая интересы развитого буржуазного класса, естественно, должен был занять враждебную коммунистам позицию. Поэтому политика большинства Политбюро по сохранению союза коммунистов с Гоминьданом (позднее — с «левым» Гоминьданом) была с их точки зрения абсурдной и пораженческой. Они требовали от КПК проводить собственный курс на развёртывание классовой борьбы (прежде всего аграрной революции), на союз «рабочего класса и крестьянства (под руководством первого) против буржуазии
» (как сказано в проекте платформы оппозиции к ⅩⅤ съезду ВКП(б)) или даже (как это делал Л. Д. Троцкий) на установление диктатуры пролетариата (т. е. власти КПК без каких-либо союзников).
В отличие от «левой» оппозиции, большинство в Политбюро, которое в то время возглавлялось И. В. Сталиным и Н. И. Бухариным, до самого разрыва коммунистов с «левым» уханьским Гоминьданом проводило курс на сохранение членов КПК в составе Гоминьдана, одновременно подталкивая «левый» Гоминьдан к развёртыванию «аграрной революции», а КПК — к захвату власти внутри Гоминьдана. Политбюро продолжило эту политику после событий 20 марта 1926 г., а после «переворота» Чан Кайши разорвало отношения с ним и поддержало правительство Ван Цзинвэя в Ухане, усилив, однако, курс, фактически направленный на внутренний подрыв последнего. Политика эта с самого начала была обречена: развёртывание классовой борьбы в городе и деревне не входило ни в программу, ни в планы ни «правого», ни «левого» Гоминьдана. Попытки захватить власть внутри уханьского правительства и активизировать классовую борьбу под знаменем «левого» Гоминьдана, но без его санкции неизбежно должны были привести к разрыву. Во многом курс Москвы в Китае объяснялся идеологическим догматизмом его разработчиков, которые, навязывая различным группировкам Гоминьдана марксистскую классовую схему, приписывали им стремления, которых у них не было. Считалось, например, что «левый» Гоминьдан, представляя мелкую буржуазию, должен выступать за решительную борьбу с крупной буржуазией и за развёртывание классовой борьбы в деревне, направленной против «помещиков» и «кулаков». При этом даже представители Коминтерна в Китае (большинство из которых даже не владело китайским языком), не говоря уже о большевистских лидерах, не знали (да и не хотели знать) ни реальной программы Гоминьдана (где как «правые», так и «левые» были принципиальными противниками классовой борьбы), ни действительных социальных проблем Китая, ни реального соотношения политических сил51. С другой стороны, политика на сохранение сотрудничества с Гоминьданом объяснялась тем, что Китай, по мнению группы Сталина — Бухарина,— страна отсталая, с большим количеством феодальных и патриархальных пережитков, поэтому целью революции там должны быть прежде всего уничтожение этих пережитков и борьба с империализмом, а не осуществление непосредственно пролетарских или мелкобуржуазно-пролетарских требований. Об этом в 1927 г., критикуя оппозицию, многократно говорили и писали И. В. Сталин и Н. И. Бухарин. Так, Н. И. Бухарин, полемизируя с К. Б. Радеком на заседании президиума ИККИ 30 марта 1927 г., призвал «механически не переносить лозунги февраля 1917 года, например: Чан Кайши — это Керенский, мы — большевики, а Гоминьдан — это эсеры и т. д.
». По его мнению, такая аналогия была абсолютно неверна, т. к. в Китае, в отличие от России, «внутри страны ведётся национальная борьба против остатков феодализма
». Кроме того, согласно Н. И. Бухарину, Чан Кайши ведёт войну против империалистов, в то время как А. Ф. Керенский «вёл вместе с империалистами войска России против других империалистов
», и, следовательно, Чан Кайши, несмотря на «контрреволюционные тенденции
», «объективно всё же ведёт освободительную борьбу
»52. Сходные аргументы приводил и И. В. Сталин уже после окончательного разрыва с Гоминьданом: «Основная ошибка оппозиции состоит в том, что она отождествляет революцию 1905 года в России, в стране империалистической, угнетавшей другие народы, с революцией в Китае, в стране угнетённой, полуколониальной, вынужденной бороться против империалистического гнёта других государств
»53. Поражение же КПК И. В. Сталин объяснял объективно неблагоприятным соотношением политических сил и считал его временным.
Спор между оппозицией и большинством ЦК о Китае очень напоминал споры между большевиками и меньшевиками о России начала века. Меньшевики тогда считали Россию отсталой страной, где необходимо сначала провести буржуазно-демократическую революцию в союзе с буржуазными партиями, которая создаст условия для роста пролетариата и последующей коммунистической революции. Большевики же, признавая необходимость первоначального выполнения буржуазно-демократических требований, считали, что революцию должна возглавить пролетарская партия, которая возьмёт власть и обеспечит перерастание буржуазно-демократической революции в пролетарскую. Хотя сталинцы и обвиняли оппозицию в меньшевизме, в действительности именно они занимали более традиционную для марксизма позицию, согласно которой, чем более отсталая страна, тем дальше она от коммунизма (эта позиция гораздо ближе к меньшевизму). Оппозиция же пыталась перенести в Китай дух ленинизма, т. е. догматически осуществить там схему, выработанную В. И. Лениным для русской революции: сначала взять власть, потом ускоренно строить социализм. Л. Д. Троцкий в 1927 г. говорил по этому поводу: «Многое нам станет понятнее в Китае, если мы правильно используем опыт России и прежде всего напомним себе, как и почему ход классовой борьбы в отсталой России передал власть в руки пролетариата раньше, чем в передовых капиталистических странах
»54. «Проект платформы большевиков-ленинцев (оппозиции) к ⅩⅤ съезду ВКП(б)» гласил: «Учение Ленина о том, что буржуазно-демократическая революция может быть доведена до конца лишь союзом рабочего класса и крестьянства против буржуазии, не только применимо к Китаю и аналогичным колониальным странам, но именно и указывает единственный путь к победе в этих странах
»55.
Таким образом, в 20—30-е гг. ⅩⅩ в. Китай рассматривался официальными кругами СССР в рамках большевистской идеологии, требовавшей поднять и поддержать революцию в Китае. Все дискуссии, порой принимавшие острый характер, не выходили за эти рамки. Тем не менее, значение этих дискуссий для самого Китая трудно переоценить. В условиях значительного материального и идеологического влияния СССР на различные политические силы в Китае повороты в советской политике часто вели к коренным изменениям в политической ситуации в этой стране. Спор в руководстве Коминтерна и ВКП(б) шёл главным образом по вопросу о том, на кого ориентироваться в Китае и соответственно что́ важнее для Китая на данном этапе революции: борьба с империализмом или борьба с внутренними классовыми врагами пролетариата. Мнения здесь высказывались самые разные, порой полярные. Например, обосновывая необходимость помощи так называемым «Народным армиям» Фэн Юйсяна в феврале 1926 г., Л. М. Карахан утверждал, что, т. к. Китай «с точки зрения международной… есть важнейший участок фронта борьбы между угнетённым народом и угнетателями
» и «китайский народ борется с империализмом
», то задача Коминтерна — помогать всем силам, которые ведут эту борьбу «независимо от какой бы то ни было политики внутри страны
». Советский дипломат ссылался на опыт помощи Мустафе Кемалю в Турции, который «был ужаснейшим реакционером
», но, несмотря на это, Москва оказывала ему помощь, рассматривая Турцию как «участок борьбы между турецкими угнетателями и народом
»56. Критикуя эту позицию, члены оппозиционной группы «Демократического централизма» в заявлении 27 июня 1927 г. писали: «Китайскую революцию сталинский ЦК явно стремится превратить в войну Китая против империалистов, а не в отряд мировой революции… Китайскую революцию ЦК рассматривает как способ нанесения максимального ущерба империалистам как врагам СССР. Это политика не Коминтерна, а НКИД
»57.
Практическая политика ЦК и Коминтерна в действительности пыталась одновременно стимулировать классовую революцию внутри Китая, которая должна была быть обеспечена подталкиванием «левых» гоминьдановцев и коммунистов к захвату власти внутри Гоминьдана, и содействовать борьбе Гоминьдана в целом с «империализмом» (т. е. за национальные требования). Эта политика не сочетала (как пишут многие авторы) национальные интересы СССР (политический реализм) с интересами мировой революции (идеологический идеализм), точнее будет сказать, что в подходах всех фракций и теоретических подходах внутри ВКП(б) и Коминтерна и национальные интересы СССР, и цели мировой революции рассматривались в рамках большевистской идеологии. Когда в 1927 г. эта противоречивая политика потерпела крах, лидеры ВКП(б), основываясь всё на той же идеологии, признали Гоминьдан реакционной буржуазной партией (т. к. только такая партия могла осуществлять репрессии против организаций пролетариата) и взяли курс на одностороннюю поддержку КПК.
Уже в июне 1927 г. Н. И. Бухарин заключил, что «революция переходит в высший фазис прямой борьбы за диктатуру рабочего класса и крестьянства
»58. Эта линия была официально закреплена Ⅵ конгрессом Коминтерна, заявившим, что задачи китайской революции могут быть решены «при условии победоносного восстания широчайших крестьянских масс, идущих под руководством и гегемонией революционного китайского пролетариата
» и взявших курс на поддержку борьбы вооружённых отрядов КПК с Гоминьданом и создание ею Советов как органов диктатуры пролетариата и крестьянства59. Разгромив оппозицию, большинство ЦК фактически взяло на вооружение её программу. В прессе, которая до разрыва с Гоминьданом описывала его как национально-революционную организацию и восхищалась успехами Северного похода, началась атака на «реакционный режим Чан Кайши
». Этот курс продолжался до середины 30-х гг., когда угроза нападения Японии заставила Москву вернуться к политике единого фронта и несколько позднее к поддержке правительства Чан Кайши.
Образ Китая и китайцев в советском обществе в 20—30-е годы
Образ китайского народа в первые десятилетия советской власти определялся несколькими факторами. Лидеры большевиков рассматривали китайских рабочих в России как естественных союзников в борьбе с буржуазией и империализмом. В 1917 г. большевиками был образован пробольшевистский Союз китайских граждан. В конце 1918 г. он был преобразован в Союз китайских рабочих, объединявший несколько национальных китайских организаций; как утверждалось, его численность составляла 40—60 тыс. человек60. Когда пекинское правительство отказалось признать большевистскую власть и отозвало своих дипломатов, большевики утвердили союз в качестве официального представителя интересов китайских граждан в России и передали ему здание китайского посольства в Петрограде. Председатель Союза Лю Цзэжун выступал на Ⅰ конгрессе Коминтерна. Союз китайских рабочих также был основан на Украине. В декабре 1918 г. НКИД направил специальное письмо в ВЧК, все Советы и местные чрезвычайные комитеты, в котором говорилось: «Необходимо разъяснить зависящим от вас органам, что китайские и других восточных стран граждане в России отнюдь не могут быть причислены к буржуазным классам и считаться, хотя бы в малейшей степени, ответственными за политику своих продажных правительств
»61.
Во время революции многие бедные китайские рабочие (около З0—40 тыс.) вступили в Красную Армию и сражались со старым режимом. Большевистское правительство, охотно использовавшее китайцев в борьбе за власть, сформировало «китайские красноармейские интернациональные отряды
», участие которых в Гражданской войне вызвало протесты на Версальской конференции62. Статья «Наши жёлтые братья», опубликованная в сентябре 1918 г. в большевистской газете «Вооружённый народ», выражает настроение эпохи:
На Китай точат зубы все империалисты, и они хотят уверить нас, что китайцы — это низшая раса, созданная для того, чтобы их потом и кровью жирели обжоры американского, английского, японского, российского и всяческого другого капитала. Китайских рабочих кули презирали и гнали раньше и те группы рабочих Америки… которые забыли великие заветы классовой и международной солидарности… Не гнать своих жёлтых братьев должны мы, а просвещать и организовывать их, защищать их от эксплуатации капитала… Революция творит чудеса… Китайский рабочий в России берёт винтовку, создаёт интернациональные отряды и кладёт свою жизнь за дело социализма. Под жёлтою кожею течет красная пролетарская кровь; в жёлтой груди бьётся мужественное сердце в один такт с сердцем мирового пролетариата, жёлтые руки высоко держат красное знамя Интернационала63.
Китайские подразделения участвовали в боевых действиях практически на всех фронтах Гражданской войны64. Многие китайские рабочие-бедняки, лишившиеся работы во время кризиса, искренне симпатизировали российским большевикам, которые, в отличие от представителей старого режима, относились к ним как к «братьям-пролетариям». Другие же вступали в Красную Армию для того, чтобы выжить или с боем пробиться в Китай. В то же время, некоторые были мобилизованы в Белое движение и сражались на другой стороне65. Китайские бойцы весьма ценились в Красной Армии, несмотря на то, что немногие из них понимали истинный смысл событий или хотя бы говорили на русском языке. Рассказывая о роли «героев-интернационалистов
» в сражениях на Уральском фронте, корреспондент писал: «Среди них имеются красноармейцы — эстонцы, латыши, мадьяры, немцы, китайцы. Лучшие из них — тт. китайцы. Бесстрашно смотрят они в глаза смерти; истекая кровью, затыкая тряпками раны, крича „уля“, бросаются они в атаку. Китайцы терпеливы, не требовательны, команда им даётся на китайском языке; остальные интернационалисты следуют примеру братьев Востока
»66.
Некоторые китайские добровольцы за свою исключительную преданность революции получили разрешения работать в ЧК и различного рода охранных частях67. Благодаря этому сложился образ решительного, зачастую жестокого и фанатичного китайца-красноармейца, который можно найти в художественной литературе того времени. Подобное описание китайца можно найти в «Китайской истории» М. А. Булгакова. Его герой знает по-русски всего несколько слов. После того как его обобрали в нелегальной московской опиумокурильне, дружелюбные большевики завербовали его в Красную Армию. Хотя он явно не вполне понимал, за что сражался, и всего-навсего хотел есть, он воевал без колебаний и был на хорошем счету у командования. В конце концов он погиб в бою68.
Господствующие «пролетарские» чувства того времени ярко выразил певец большевистской революции В. В. Маяковский. Его стихотворение «Прочь руки от Китая!» — поэтическое обобщение нового взгляда на эту страну:
Война, империализма дочь, призраком над миром витает.
Рычи, рабочий:
— Прочь руки от Китая!
— Эй, Макдональд, не морочь, в лигах речами тая.
Назад, дредноуты!
— Прочь руки от Китая! —
В посольском квартале, цари точь-в-точь,
расселись, интригу сплетая.
Сметём паутину.— Прочь
руки от Китая! —
Ку́ли, чем их кули́ волочь,
рикшами их катая —
спину выпрями! — Прочь
руки от Китая! —
Колонией вас хотят истолочь.
400 миллионов — не стая.
Громче, китайцы: — Прочь
руки от Китая! —
Пора эту сволочь,
со стен Китая кидая.
— Пираты мира, прочь
руки от Китая! —
Мы всем рабам рады помочь,
сражаясь, уча и питая.
Мы с вами, китайцы! — Прочь
руки от Китая! —
Рабочий, разбойничью ночь
грому, ракетой кидаю
горящий лозунг: — Прочь
руки от Китая!69
В другом стихотворении, «Московский Китай», В. В. Маяковский, показав тяжёлую жизнь китайца-прачки в Москве и заметив, что здесь всё же безопаснее, чем в Китае, где милитаристы «снимут голову — не отрастишь ещё
», делает вывод:
Знаю, что — когда в Китай придут
октябрьские повторы
и сшибается класс о класс —
он покажет им, народ, который
косоглаз70.
В «Лучшем стихе» В. В. Маяковский рассказывает о своем выступлении в Ярославле. Когда кто-то из слушателей попросил его прочитать своё лучшее стихотворение, он попросту пересказал слушателям только что полученное известие: «Товарищи! Рабочими и войсками Кантона взят Шанхай!» Аудитория ответила овацией. Поэт заключает:
Не приравняю всю поэтическую слякоть,
любую из лучших поэтических слав,
не приравняю к простому газетному факту,
если так ему рукоплещет Ярославль.
О, есть ли привязанность большей силищи,
чем солидарность, прессующая рабочий улей?!
Рукоплещи, ярославец, маслобой и текстильщик,
незнаемым и родным китайским кули71.
В. В. Маяковский и его ярославские слушатели-рабочие явно рассматривали борьбу против западных империалистических держав, пусть её в то время вели не китайские коммунисты, а Гоминьдан, как часть всемирной борьбы против капитализма ради лучшего мира. Поэт чётко выразил это в своем стихотворении «Не юбилейте»:
Пусть
китайский язык
мудрён и велик —
Знает каждый и так,
что Кантон
тот же бой ведёт,
что в Октябрь вели
Наш
рязанский Иван да Антон72.
Для В. В. Маяковского (как и для советских лидеров), китайские революционные националисты входили в единую всемирную антиимпериалистическую армию, а китайские генералы (особенно У Пэйфу и Чжан Цзолинь) являлись капиталистами, представителями мирового империализма и реакционных сил. Это отчетливо видно из таких стихотворений В. В. Маяковского, как «Московский Китай», «В мировом масштабе» (1926), «Рождественские пожелания и подарки» (1926), «Лев Толстой и Ваня Дылдин» (1926), и пьесы «Мистерия-Буфф» (1918, второй вариант — 1921), где появляется символический характер китайца. Однако существенно, что в «Московском Китае» этот революционный образ Китая соседствует с более традиционным изображением китайского иммигранта, занятого тяжёлым трудом, как правило, в прачечной. Аналогичным образом Китай представлен и во многих других стихотворениях В. В. Маяковского: «Гулом восстаний…», «Летающий пролетарий», «Владимир Ильич Ленин», «Да или нет?», «Англичанка мутит», «Мрачный юмор», «Прочти и катай в Париж и Китай», «Песня-молния» и других73. Образ Китая и братского китайского народа, борющегося вместе с Советским Союзом против империализма, широко представлен в советской литературе и искусстве 20-х г. Его можно найти в стихах многих «пролетарских» поэтов, таких как И. П. Уткин («Сунгарийский друг», 1925), М. А. Светлов («Провод», 1927), Н. Н. Асеев («Вставай, Китай!», 1928), Д. Бедный («Товарищ, читай про Китай да на ус мотай», «Китайские тени», «Китайский монах», «Чан Кайши… карно!»). В рассказе А. П. Платонова «ФРО» герой, романтик труда и революции Фёдор Евстафьев, устав от обыденности быта, мечтает «поехать в Южный советский Китай и стать там солдатом
» и, в конце концов, осуществляет свою мечту74. В 1926 г. театр В. Е. Мейерхольда, знаменитый своими новыми революционными формами искусства, поставил пьесу «Рычи, Китай!» (текст С. М. Третьякова, режиссёр В. Ф. Федоров) о борьбе Китая с колониализмом и господством империалистов. Пьеса получила очень благоприятные отзывы в печати и высоко оценивалась многими большевистскими лидерами. Так, Н. И. Бухарин в рецензии, опубликованной в «Правде», отметил, что «пьеса „Рычи, Китай!“ чрезвычайно динамична, и её осью является превращение рабочего скота в революционного пролетария… Это показано мастерски
»75. Не обошли пьесу вниманием и другие большевистские руководители. Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев оставили после её просмотра следующую запись в книге отзывов: «Очень, очень хорошо… Очень просим показать всем коминтерновцам, находящимся сейчас в Москве. Это не только искусство, а прекрасная пропаганда
». Автором другой записи был С. М. Будённый, который написал: «Я смотрю „Рычи, Китай!“ в первый раз. Считаю, что в этой пьесе схвачен момент современного Китая. Игра идёт необычайно живо и переносит зрителя на действительную сцену Китая. Мне хочется принять участие, невольно увлекаясь
»76.
В 1927 г. на сцене Большого театра В. Д. Тихомировым и Л. А. Лощининым был поставлен балет «Красный мак» на музыку Р. М. Глиэра, также посвящённый революционным событиям в Китае. Он стал первым советским репертуарным балетом на современную тему. Спектакль шёл с большим успехом и также вызвал положительную реакцию руководства страны.
Во время Гражданской войны и после неё многие бывшие китайские работники вернулись в Китай (например, 40 тыс. китайцев вернулись с разрешения советского правительства до начала военных действий в Сибири), но многие остались и даже приняли российское (а позднее советское) гражданство77. В 1920-е гг. китайцев в СССР по-прежнему было немало. По переписи 1926 г. в стране насчитывалось около 100 тыс. китайцев, большинство (70 тыс.) на Дальнем Востоке, а остальные в крупных городах. Например, в Москве в 1928 г. проживало 8 тыс. китайцев. Большинство из них были родом из провинции Шаньдун, но около тысячи приехало из Южного Китая. Китайцы с севера занимались прачечным ремеслом, трикотажным промыслом, хлебопечением, в то время как южане специализировались на кожевенном производстве. Безработица среди китайцев была высокой, и некоторые были вовлечены в организованную преступность и содержали опиумные притоны. В 1921 г. власти начали использовать китайских рабочих на государственных маковых плантациях, производивших опиум на экспорт. Кроме того, китайцы снова получили разрешение работать на золотых приисках, хотя и с некоторыми ограничениями78.
Благодаря переселению русских из Европейской России и возвращению многих китайцев на родину в бурные годы Гражданской войны и последующей разрухи к 1926 г. доля китайского населения на Дальнем Востоке сократилась до 3,8 процента. В то же время к концу 1930-х гг. китайцы всё ещё были заметным меньшинством на Дальнем Востоке, но играли важную роль в экономике региона, особенно как горнорабочие на угольных шахтах и грузчики79.
Русские жители крупных городов в первые десятилетия ⅩⅩ в. воспринимали китайца-прачку как неотъемлемый факт жизни. Только в Москве, по официальным данным, работало 420 китайских прачечных80. Китайцев-прачек описал М. А. Булгаков в «Зойкиной квартире», пьесе о нэповской Москве. Но китайцы у М. А. Булгакова резко отличаются от героев восторженных сочинений В. В. Маяковского, выражавшего коммунистические взгляды и изображавшего рабочих всех наций, в том числе и китайской, как братьев российского пролетария. Как и китаец-красноармеец в «Китайской истории», прачки-китайцы из «Зойкиной квартиры» не похожи на образцовых пролетариев. В пьесе это жестокие и невежественные преступники, вовлечённые в наркоторговлю81. Такой образ китайцев не только восходит к более традиционным взглядам, явно пережившим большевистскую пропаганду в некоторых кругах российского общества, но и отражает реалии Москвы 1920-х гг. Однако образ китайцев, живших в России 1920-х и 1930-х гг., в целом позитивен. Он был настолько устойчив, что просуществовал по крайней мере ещё одно поколение. Современная русская писательница Л. Н. Васильева вспоминает, как бабушка рассказывала ей: «Когда мы в революцию жили в Иркутске, рядом была китайская прачечная. Китайцы — лучшие в мире прачки
»82. Известный китаевед Л. М. Гудошников, также выросший в Иркутске, позднее рассказывал: «У меня связаны с китайцами детские довоенные воспоминания об Иркутске. Китайцы торговали у нас самодельными сластями и ранними овощами, которые сами выращивали, делали мелкий ремонт обуви. Люди они были добросовестные, честные, и мать, посылая меня на базар, наказывала обращаться только к ним. Китайцев было довольно много. Нередко они женились на русских женщинах. Помню и китаянок: в очереди к окошку, в которое принимали передачи для узников иркутской тюрьмы. Помню, как выкрикивали из окошка китайские фамилии…
»83 Согласно А. Г. Ларину, в предвоенном СССР существовали два популярных образа китайцев: образ «опасного китайца» и образ «трудолюбивого и послушного китайца». Образ «опасного китайца» набирал силу в те моменты, когда советское правительство обнаруживало симптомы слабости84.
До конца 1920-х гг. советские власти видели в китайцах дружественных представителей «пролетариата» соседней страны. Официальной этнической дискриминации не было; в стране работали китайские школы, китайские театры, открывались китайские клубы и спортивные секции. В соответствии с целями культурной революции советское правительство прилагало большие усилия, чтобы дать работавшим в России китайцам и корейцам, в большинстве своём неграмотным, начальное образование, оказывало им медицинскую помощь и даже переводило фильмы на китайский язык. С целью дать более глубокое идеологическое образование коммунистическим активистам-китайцам были открыты Коммунистический университет трудящихся Китая (КУТВ) и Университет трудящихся Китая им. Сунь Ятсена. Однако с конца 1920-х гг. в связи с ухудшением международной ситуации на Дальнем Востоке и упрочением сталинской диктатуры в китайцах (так же как и других иностранцах и многих русских) начали видеть потенциальных или действительных шпионов, в результате чего многие из них подверглись репрессиям. Целые группы китайцев арестовывались и обвинялись в контрабанде, шпионаже, торговле опиумом, незаконном владении оружием, попадали в тюрьмы либо депортировались в Китай или в другие регионы СССР.
В середине 1930-х гг. советское правительство начало строить военные укрепления вдоль китайской границы для отражения возможного японского нападения. Китайское население СССР продолжало уменьшаться в численности до 1937 г., когда значительная часть оставшихся китайцев была либо депортирована в Китай, либо отправлена в сталинские лагеря и там погибла. В то время как логика сталинского террора часто труднопостижима и никогда официально не объяснялась, данная мера в целом соответствует сталинскому подходу к народам, «не заслуживающим доверия». В том же году И. В. Сталин выслал корейское население советского Дальнего Востока в Казахстан, а во время Второй мировой войны он поступил так же с некоторыми народами Северного Кавказа, турками-месхетинцами, крымскими татарами и немцами Поволжья. В китайцах и корейцах, очевидно, видели потенциальных шпионов или «пятую колонну» Японии, поскольку Корея была оккупирована японцами, а многие советские китайцы были родом с территории Маньчжоу-Го, японского марионеточного государства. Показательно, что незадолго до высылки, 23 апреля 1937 г., «Правда» опубликовала статью с характерным названием «Иностранный шпионаж на советском Дальнем Востоке». В статье, написанной в полном соответствии с духом шпиономании того времени, утверждалось, что иностранные разведки, особенно японская, ведут широкую кампанию по засылке шпионов и диверсантов на Дальний Восток, причём «кадры шпионов, диверсантов и террористов… вербуются из среды русских белогвардейцев, деклассированных и продажных элементов коренного населения Маньчжурии и Кореи и профессиональных контрабандистов и разведчиков
». Далее автор статьи предупреждал: «В своей работе иностранные шпионы на советском Дальнем Востоке применяют всевозможные способы маскировки… Агенты маскируются под внешность жителей того района, где по заданию своих руководителей они должны проводить шпионскую работу. При этом разведка учитывает национальный состав каждого данного района на нашей территории и соответственно посылает агентов корейской, китайской национальности или русских белогвардейцев
»85. Таким образом, высылка китайского и корейского населения с Дальнего Востока виделась мерой по борьбе со шпионажем. Интересно, что даже в то время в СССР нашлись люди, не согласные с этой мерой. Так, заместитель наркома иностранных дел Б. С. Стомоняков направил записку в правительство, в которой предупреждал, что установление зон проживания для лиц иностранного происхождения вызовет неблагоприятную реакцию за рубежом и нанесёт ущерб отношениям СССР с народами других стран. В 1938 г. Б. С. Стомоняков вместе с другими руководителями НКИД был арестован и расстрелян86.
К концу 1940-х гг. количество китайского населения в СССР значительно уменьшилось. По всесоюзной переписи населения 1937 г. китайцев во всей стране уже насчитывалось лишь 38 527 человек, а в 1939 г.— 32 023 человека (из них 43 % в городах и 57 % в сельской местности)87.
Концепция «азиатского способа производства»
Разногласия в подходе к Китаю вылились в марксистскую дискуссию о концепции «азиатского способа производства» применительно к китайскому обществу. Теория «азиатского способа производства» выросла в марксизме из нескольких высказываний К. Маркса о том, что капиталистической общественно-экономической формации, наряду с феодальной и античной (позднее получившей название «рабовладельческой»), предшествовала ещё и «азиатская
»88. Эту идею К. Маркс унаследовал от Дж. С. Милля. Согласно Дж. С. Миллю, в Азии прибавочный продукт присваивало правительство, создавая гигантский бюрократический аппарат и перераспределяя национальное богатство в свою пользу89. Вслед за Дж. С. Миллем К. Маркс описывает «азиатский» способ производства как противостояние деспотической власти государства, обладающего исключительным правом на землю, и разрозненных крестьянских общин90. Сам К. Маркс никогда не утверждал, что докапиталистические формации, включая и азиатскую, последовательно сменяют друг друга во всём мире, как феодализм сменил рабовладение в Европе. Такой вывод сделали некоторые из его последователей. В результате разгорелась борьба между марксистами — сторонниками всеобщности исторического процесса — и теми, кто не верил в фундаментальное сходство восточного и западного обществ.
Для России эта борьба, кроме теоретического, имела и прямое политическое значение. Ещё до революции 1917 г. лидер большевиков В. И. Ленин и его сторонники утверждали, что цель социалистической революции в России, коммунизм,— это высший тип общества, свободный от классовой эксплуатации, основанный на наиболее рациональном способе организации производства. Согласно В. И. Ленину, изобилие товаров и услуг, а также разумное использование труда достижимы лишь при немедленной национализации промышленности и земли. Хотя В. И. Ленин иногда и употреблял термины «азиатчина», «азиатский деспотизм» как синонимы экономической и социальной отсталости и крайнего деспотизма (и он был далеко не одинок в этом отношении), он не был сторонником идеи существования особого «азиатского способа производства». В целом он не отличал российский путь развития от европейского, однако полагал, что Россия, несмотря на быстрое развитие капитализма, отстаёт от Запада и к началу ⅩⅩ в. представляет страну с сильными пережитками феодализма.
Позицию В. И. Ленина не разделяли некоторые влиятельные русские марксисты. Одним из них был первый русский теоретик марксизма Г. В. Плеханов, утверждавший, что Россия в прошлом была не феодальной страной, а азиатской деспотией типа египетской или китайской, здесь господствовало «московское издание экономического порядка, лежавшего в основе всех великих восточных деспотий
», которое возникло под влиянием монголо-татар91. Г. В. Плеханов полагал, что к началу ⅩⅩ в. Россия ещё не достигла уровня развития капитализма, необходимого для непосредственного перехода к коммунизму. В этих обстоятельствах, учитывая особенности русской истории, преждевременная национализация «средств производства» казалась ему опасной. Еще в 1906 г., критикуя ленинские планы национализации земли, Г. В. Плеханов высказывал опасение, что эта мера вместо коммунизма восстановит в России азиатскую деспотию и приведёт к новому закабалению крестьян «Левиафаном-государством
»92.
Эта дискуссия и аргументы, выдвигавшиеся обеими сторонами, были знакомы каждому грамотному русскому марксисту. Более того, Г. В. Плеханов пользовался всеобщим уважением как теоретик-марксист. Он умер в 1918 г., не успев принять участие в послереволюционной политической борьбе. Несмотря на его критику большевиков и симпатии к меньшевикам, Г. В. Плеханов не был объявлен предателем или врагом народа. После его смерти вышло полное собрание его сочинений, и его вклад в революцию в целом оценивался высоко, а это значит, что его имя и, по крайней мере, отдельные его аргументы могли использоваться в теоретических дискуссиях 1920-х гг.
После революции дискуссия об «азиатском способе производства» вновь разгорелась на китайском материале. Использовать Китай как пример было естественно, поскольку китайская революция стала одним из основных пунктов в программе Коминтерна. Идею о том, что китайское общество — типичный пример «азиатского способа производства», разделяли многие советские и коминтерновские теоретики и активисты. Среди них были известный марксистский философ Д. Б. Рязанов, экономисты и активисты Коминтерна Л. И. Мадьяр и Е. С. Варга (оба родом из Венгрии), представитель Компартии США в Коминтерне Дж. Пеппер, агенты Коминтерна в Китае С. А. Далин и В. В. Ломинадзе, синологи М. Д. Кокин и Г. К. Папаян93. Хотя для некоторых из них этот вопрос носил скорее теоретический характер, активисты (такие как В. В. Ломинадзе) строили на этой концепции определённую политику. После разрыва между Гоминьданом и китайскими коммунистами в 1927 г. В. В. Ломинадзе занял «левую» позицию, выступив в поддержку одного из лидеров китайских коммунистов, Цюй Цюбо, который требовал немедленного свержения реакционных националистов. В нескольких статьях и речи на ⅩⅤ съезде ВКП(б) В. В. Ломинадзе утверждал, что для современного Китая характерен «азиатский способ производства», а не феодализм. Это, по его мнению, объясняло, почему китайская буржуазия была слаба, больше не представляла «единой политической силы
» и существовала лишь как «отдельные группы… под командой отдельных милитаристов
». В полемику с В. В. Ломинадзе на съезде вступил сам И. В. Сталин, обвинивший его в занижении роли буржуазии94.
Хотя В. В. Ломинадзе, как и Г. В. Плеханов, говорил об азиатском характере китайского общества, он пришёл к другим выводам. Г. В. Плеханов, как традиционный социал-демократ, критиковал планы В. И. Ленина по национализации земли в России, поскольку предвидел возможность возрождения традиционной российской азиатской системы, основанной на преобладании государственной собственности. В своих рекомендациях он повторял слова меньшевиков — необходимо дождаться соответствующего уровня развития капитализма и разрушения традиционного общества, прежде чем начинать борьбу за социализм. Представитель левого крыла В. В. Ломинадзе, напротив, считал, что слабость буржуазии в Китае даёт возможность миновать буржуазно-демократическую стадию революции. На этом основании он отстаивал стратегию немедленных восстаний, которые раздуют огонь социалистической революции.
В то время как в России слабость буржуазии не помешала большевикам во главе с В. И. Лениным захватить власть и объявить социалистическую революцию, лидеры Коминтерна отказались от такой политики в Китае по ряду причин. Во-первых, такая стратегия, вероятно, казалась слишком авантюристической и угрожающей самому существованию Китайской компартии. Гоминьдан был слишком сильным и уверенно подавлял коммунистические восстания. Во-вторых, в то время в СССР И. В. Сталин боролся с «левым уклоном» и хотел покончить с левацкой ересью во всех сферах. Поэтому П. Миф, главный сталинский эксперт по Китаю, в своей речи подверг критике подход В. В. Ломинадзе. Он прямо отрицал концепцию «азиатского способа производства» как отдельной стадии исторического развития:
Товарищ Ломинадзе попытался противопоставить феодализму азиатский способ производства (Ломинадзе: Это Маркс противопоставлял!).
Маркс не противопоставлял феодализма азиатскому способу производства… Маркс под азиатским способом производства понимал одну из разновидностей феодализма, оговаривая, что по существу никаких отличий от обыкновенного феодализма здесь нет, а есть второстепенные отличия скорее внешнего, отчасти исторического и юридического порядка.95
Поскольку, по мнению П. Мифа, в Китае существовал «обычный» феодализм, буржуазия там не может быть слабее, чем где-либо ещё. Он отмечал: «Буржуазные тенденции в Китае с порядка дня не сняты, и сейчас приходится вести очень решительную борьбу против буржуазных тенденций. Эти буржуазные тенденции, направленные в сторону ликвидации революции и торжества реакции, сейчас не только не ослаблены, а, наоборот, выступают в более обострённой форме
»96.
В то время как нежелание сталинской группировки торопить революцию в Китае можно объяснить тактикой, отрицание И. В. Сталиным концепции «азиатского способа производства» объяснить труднее. В сущности, выступать против немедленной революции в Китае было бы гораздо проще, признав наличие там «азиатского способа производства», так же как Г. В. Плеханов сделал это применительно к России. Однако большевистские лидеры не могли себе позволить подобную аргументацию. Она бы вызвала прямые аллюзии с самой Россией, особенно в ситуации, когда правление большевиков становилось всё более деспотическим. Для марксиста, знакомого с соответствующими работами К. Маркса, было вполне естественно предположить, что набирающая силу диктатура И. В. Сталина, основанная на преобладании государственной собственности, укладывается в рамки азиатского деспотизма в соответствии с предсказанием Г. В. Плеханова. Правый большевик мог бы сделать вывод, что российская революция произошла слишком рано и что России нужны денационализация и развитие капитализма до должного уровня. Представитель левого крыла предложил бы атаковать обюрократизированные партийно-государственные структуры посредством перманентной революции. Однако и тот, и другой сошлись бы в своём разочаровании этой новой версией азиатского деспотизма. Поэтому не было случайностью, что концепция «азиатского способа производства» стала популярной в конце 1920-х — 1930-х гг. на пике внутрипартийной борьбы по вопросу о будущей стратегии, когда диктаторский стиль И. В. Сталина начал вызывать широкое разочарование. И. В. Сталин, понимая, что концепция «азиатского способа производства» потенциально опасна для его власти, организовал её разгром, а потом и запретил, как только приобрел достаточную силу. Сторонники этой концепции либо отказались от своих взглядов, либо были репрессированы. Так, В. В. Ломинадзе в начале 1930-х гг. участвовал в написании тайного воззвания, критиковавшего сталинскую экономическую политику и диктаторское правление, за что был исключён из партии и покончил жизнь самоубийством в 1935 г.
Восприятие Китая в СССР в 30-е годы
Подход Москвы к ситуации в Китае коренным образом изменился после оккупации Маньчжурии Японией, когда появилась непосредственная угроза СССР со стороны японского милитаризма. История советско-китайских отношений в этот период хорошо изучена. Для данного исследования важно понять, каким Китай видели в Советском Союзе и как этот образ использовался во внутриполитических дискуссиях. Задача эта не проста, поскольку с ходом монополизации власти в СССР первоначально правящей группой большевистских лидеров, а затем одной личностью различные мнения по любой проблеме всё жёстче и жёстче подавлялись. С конца 1930-х гт. и до смерти И. В. Сталина официально существовало только одно мнение: мнение лидера. Тем не менее, некоторые различия в подходах всё же были, и их порой удавалось выражать завуалированными способами.
Изменения в советском подходе произошли не сразу. Первое время советская печать продолжала осуждать Чан Кайши и Гоминьдан, ставя им в вину успех японской агрессии и даже приписывая планы сдать Китай японцам, чтобы спасти его от коммунистов. Так, 21 сентября 1931 г. в «Известиях» появилась статья о японской интервенции в Маньчжурии, где о положении «китайских трудящихся
» в новых условиях говорилось следующее: «Новое, неслыханное ещё унижение, доставшееся на долю их страны, без сомнения раскроет перед ними всю глубину падения и всю степень бессилия, до которого довела эту страну гоминьдановская феодально-буржуазная реакция — постыдная агентура мирового империализма
»97. В сентябре 1934 г. в «Правде» было опубликовано написанное А. М. Горьким «Обращение к революционным писателям Китая», в котором самый известный советский писатель поздравлял китайских коллег «с новыми победами
» китайских коммунистов и выражал убеждённость «в окончательной победе над врагом
», т. е. Гоминьданом98.
Со временем Москва решила поддержать правительство Чан Кайши как самую серьёзную антияпонскую силу в Китае. Ещё в середине 30-х гг. в Коминтерне начали говорить о «едином антиимпериалистическом фронте» в Китае по образцу единых антифашистских фронтов в Европе. Политика «единых фронтов» была официально провозглашена на Ⅶ конгрессе Коминтерна, проходившем в июле-августе 1935 г. в Москве, и рассматривалась как средство борьбы с растущей угрозой фашизма в Европе и японского милитаризма на Дальнем Востоке. Однако вплоть до следующего года нанкинское правительство по-прежнему объявлялось предательским и его вхождение в «единый фронт» с КПК не предусматривалось. Советская печать продолжала обвинять Гоминьдан и его руководителей в продажности, пораженчестве и проимпериалистической политике. В статье о ситуации в Китае, вышедшей в декабре 1935 г., главный коминтерновский эксперт по Китаю Г. Н. Войтинский объяснял: «Если мы раньше говорили о сопротивлении Китая Японии, то мы, повторяем, говорили о народных массах Китая, о рабочем классе, руководимом коммунистической партией, о советах и красных армиях, о партизанах и волонтёрах, о революционном студенчестве. Но ни в коем случае не о Ван Цзин-вэе и Цзян Кай-ши, возглавляющих китайскую контрреволюцию
»99.
Уже через несколько месяцев советская позиция изменилась, и Коминтерн дал указание КПК вступить в новый союз с Гоминьданом для совместной борьбы с японцами. Все признаки указывали на то, что Коминтерн и китайские коммунистические лидеры постепенно изменили своё отношение к Чан Кайши и начали считать его самым реальным руководителем единого антияпонского фронта100. Уже в сентябре 1936 г. Г. Н. Войтинский указывал на Чан Кайши, которого он ранее называл «вождём китайской контрреволюции
», как на достаточно приемлемую фигуру101. В декабре того же года «Правда» отмечала: «Японская военщина… справедливо считает, что происходящий и сильно продвинувшийся вперёд процесс объединения Китая вокруг правительства Чан Кайши представляет смертельную опасность для планов превращения Китая в колонию
»102.
В июне 1936 г. Москва поддержала Чан Кайши во время антиправительственного восстания генералов в Гуанчжоу103, а позже сыграла существенную роль в его освобождении во время так называемого Сианьского инцидента, когда в декабре 1936 г. лидер Гоминьдана был арестован восставшими офицерами преимущественно из маньчжурской группировки, возглавлявшейся Чжан Сюэляном. Хотя Чжан Сюэлян и его союзники стремились сорвать планы Чан Кайши по нападению на коммунистические районы, чтобы совместно с коммунистами обратить все силы против японской агрессии, Москва поддержала Чан Кайши, считая его лидером китайского сопротивления японцам. Советская печать обвиняла Японию в подготовке этого конфликта и клеймила Чжан Сюэляна за прояпонские симпатии, объявляя его антияпонские требования маскировкой104. Причины столь неожиданной позиции выяснились позже, когда стало известно, что Москва начала переговоры с Нанкином задолго до Сианьского инцидента.
Под давлением Москвы и китайского общественного мнения, поддерживавшего патриотическое сопротивление японской агрессии, китайские коммунисты согласились признать нанкинское правительство в качестве законного центрального правительства Китая, и коммунистические вооружённые формирования формально вошли в состав объединённой армии, сохранив при этом полную организационную независимость. В марте 1937 г. советское Политбюро решило поставлять оружие правительству Чан Кайши, и с того времени военная помощь китайским коммунистам оказывалась только через центральное правительство и с его одобрения. В августе 1937 г., примерно через месяц после начала открытого японского вторжения в Китай, был заключён советско-китайский договор о ненападении, и И. В. Сталин направил гоминьдановскому правительству военную помощь, советников и даже бойцов некоторых родов войск (в частности летчиков и артиллеристов).
Изменить курс в Китае и по-новому взглянуть на ситуацию в этой стране Москву заставили интересы собственного выживания. Выступая на совещании в Дальневосточном отделе НКИД 27 июня 1939 г., заместитель наркома С. А. Лозовский так выразил новый подход Москвы: «Мы как государство заинтересованы в победе Китая над японским агрессором, и вся работа полпредства должна быть подчинена этой нашей установке… Предпосылкой успешной войны против Японии является национальное единство… Хотя в правых кругах Гоминьдана имеется враждебное отношение к СССР, но в своём подавляющем большинстве китайский народ относится к СССР с величайшей любовью. В Китае сейчас решаются мировые проблемы. По существу сейчас поставлен вопрос так: будет ли Япония владычицей Тихого океана и тихоокеанского побережья или нет. От исхода борьбы между Китаем и Японией — а я в этом не сомневаюсь — зависит судьба человечества на многие десятилетия
»105.
Осуществляя идеологическое обоснование нового официального курса, советская печать сменила тон и начала объяснять, что Чан Кайши не так уж плох, а в последнее время даже сильно исправился. В декабре 1938 г. в «Известиях» утверждалось: «За последний год произошло значительное сплочение всех общественных сил в Китае вокруг нанкинского правительства, которое при всех его [предыдущих] колебаниях и отступлениях… и при всей нерешительности в проведении на деле политики единого фронта, обнаруживало всё же готовность и способность возглавить эту оборону [против Японии]
»106.
После создания единого фронта в Китае осенью 1937 г. советская печать радикально изменила тон при описании китайской ситуации. В ней больше не проявлялось никакого интереса к китайской революции и всё внимание было обращено на войну с Японией. Деятельность китайских коммунистов упоминалась лишь тогда, когда она была связана с антияпонским сопротивлением. В то же время события в Китае стали освещаться гораздо подробнее, почти с такой же частотой, как в 1925—1927 гг. В конце 1937 г. «Правда» и «Известия» публиковали в среднем в день по колонке, посвящённой войне в Китае, а время от времени помещали и более обширные статьи о различных аспектах политической и экономической ситуации в этой стране. Даже история была вновь пересмотрена в сторону преуменьшения роли китайских коммунистов. В следующем, достаточно типичном описании периода до 1937 г., опубликованном в 1938 г., коммунисты (которых прежде называли ведущей силой революции) даже не упоминаются: «Ещё совсем недавно Китайская республика не представляла собой единого целого, объединённого крепкой центральной властью. Фактически в каждой провинции (области) Китая была своя власть. Эта власть возглавлялась генералами местных армий и лишь формально подчинялась национальному правительству, образованному партией национального объединения — Гоминьданом. Эти генералы постоянно враждовали как между собою, так и с центральным правительством… Отсюда — постоянные междоусобные войны, раздиравшие Китай на части
»107.
С этого времени большинство статей о Китае в советской прессе было посвящено Гоминьдану, нанкинскому правительству и Чан Кайши, который теперь рассматривался как лидер сопротивления. Регулярно появлялись сообщения о речах и деятельности Чан Кайши, сопровождавшиеся положительными комментариями, в то время как внутриполитическая активность Коммунистической партии освещалась крайне ограниченно и главным образом не в центральных газетах, а в коминтерновских публикациях. Даже подписание советско-германского пакта в августе 1939 г. не оказало особого влияния на этот новый курс. Война Китая против Японии по-прежнему рассматривалась как борьба за национальное освобождение, политика центрального правительства (к тому времени перебравшегося в Чунцин) оценивалась положительно, советская помощь продолжала поступать. Кроме того, советские авторы замалчивали конфликты и борьбу между Гоминьданом и коммунистами и особенно роль Чан Кайши и руководства Гоминьдана в ней. Об этих конфликтах в советской печати того времени либо вовсе не сообщалось, либо во всём винились безымянные прояпонски настроенные генералы китайской армии, якобы не подчинявшиеся приказам Чан Кайши, а также японские и англо-американские антикоммунистические интриги. Чан Кайши лично и Гоминьдан в целом критике не подвергались108. Отдельные публикации иностранных авторов также были выдержаны в новом ключе: переводились и публиковались те из них, кто призывал к союзу всех китайских сил в борьбе с японской агрессией109.
После нападения Германии на СССР для Москвы значение союза с Чан Кайши, армии которого сдерживали японские силы в Китае, ещё более возросло, т. к. активные боевые действия в Китае снижали вероятность вторжения Японии на советскую территорию. В связи с этим до самого конца войны с Германией Москва пыталась смягчить разногласия между Гоминьданом и КПК и стимулировать обе стороны активно и скоординированно сопротивляться японской агрессии. Главную опасность советское руководство видело в заключении сепаратного мира между Чан Кайши и Японией, который дал бы возможность Гоминьдану уничтожить КПК, а Японии вторгнуться в СССР.110 Против такого сценария и была направлена политика ослабленного войной СССР. Прежняя пропагандистская линия практически не претерпела изменений, в особенности в первые годы войны (1941—1943), однако количество информации о Китае существенно сократилось в связи с появлением гораздо более насущных тем. Анализируя подход советской печати, автор подробного исследования советской политики в Китае того периода Ч. Маклэйн замечает: «Война с Японией по-прежнему была справедливой войной, единый фронт коммунистов и Гоминьдана — по-прежнему основой китайского сопротивления, хотя некоторое напряжение в нём, вызванное деятельностью „местных реакционных групп“, признавалось. Однако официально считалось, что серьёзной угрозы единому фронту нет
»111.
На протяжении военных лет Москва прилагала немало усилий для сдерживания конфликтов между силами Гоминьдана и КПК и активизации и теми, и другими антияпонской борьбы. В мнениях советского представителя П. П. Владимирова в Яньане, где располагался штаб коммунистов, сквозит раздражение по поводу того, что КПК недостаточно активно ведёт войну с Японией и старается сохранить силы для борьбы с Гоминьданом, а также недовольство развёрнутой Мао Цзздуном кампанией по исправлению стиля («чжэнфэн»), направленной на искоренение инакомыслия, и прежде всего советского и коминтерновского влияния в КПК112. Однако в целом СССР всемерно поддерживал КПК, стараясь убедить Чан Кайши не открывать военных действий против коммунистических сил.
Поворот советского руководства к сотрудничеству с Гоминьданом было непросто воспринять многим в СССР. Курс на поддержку Чан Кайши встречался не только с непониманием китайских коммунистов, даже советским дипломатам перестроиться было крайне трудно. Десятилетие официальной критики Чан Кайши как «фашистского диктатора
», соглашателя с японцами, представляющего антипатриотические круги крупкой буржуазии, давало о себе знать. По свидетельству работавшего в то время в Китае советского дипломата А. М. Ледовского, Москва многократно критиковала советских дипломатов, среди которых сохранялись античанкайшистские настроения, за односторонность их информации. Приводимый А. М. Ледовским в пример доклад 1-го Дальневосточного отдела МИД СССР министру иностранных дел и его заместителям от 1 января 1943 г., посвящённый анализу информации советского посольства в Китае за несколько предыдущих лет, даёт интересную картину видения ситуации в Китае российскими дипломатами и причин недовольства их руководства в Москве. В докладе критикуются, в частности, оценки отношения руководства Гоминьдана к Японии как «внешне враждебного
», его подхода к прояпонскому правительству Ван Цзинвэя как процесса «постепенного вползания в период мирного сосуществования
», а китайской армии как «руководимой продажным командованием во главе с Чан Кайши
», где самим военным министром ведётся «предательская работа по срыву военных операций и снабжения
». В комментарии центра указывается, что такая оценка «затрудняет понимание того, почему Китай на протяжении более 5 лет упорно ведёт войну с Японией…
»113. Москва также не приняла мнения посольства о том, что правительство Чан Кайши «является типичным для Китая буржуазно-помещичьим (компрадорского характера) правительством
» и что сам китайский лидер — «хитрый делец, компрадор, человек с душой феодала
», «хитрый политический комбинатор низкой пробы
». По мнению Москвы, подобные люди «не могут в течение продолжительного времени возглавлять борьбу народа за свою национальную независимость и территориальную целостность
». С точки зрения центра «правильно было бы, сохранив характеристику чунцинского правительства как буржуазно-помещичьего, подчеркнуть, что в этом правительстве решающую роль играют не компрадоры и феодалы, а представители патриотически настроенной буржуазии, активное участие которой в антияпонской войне объясняется нежеланием подчиниться внешней агрессии
»114. В документе также указывается на то, что посол А. С. Панюшкин игнорировал Чан Кайши и его окружение, предпочитая встречаться лишь с представителями КПК и «левыми» гоминьдановцами115.
По свидетельству А. М. Ледовского, хотя после подобной критики из центра советское посольство старалось поддерживать с Чан Кайши и его правительством корректные отношения, «принципиальная позиция поддержки КПК оставалась неизменной
», а «в правила поведения советских дипломатов, а также журналистов и историков, писавших о Китае, входило проявление „лояльности“ по отношению к КПК и лично к Мао Цзэдуну
»116. А. М. Ледовский вспоминает, что в тот период Москва воздерживалась от личных выпадов против Чан Кайши (что продолжала делать пропаганда китайских коммунистов), «но во всём остальном советская пропаганда, в которой активное участие принимали историки, политологи, журналисты, в своих публикациях поддерживала антигоминьдановскую пропаганду, солидаризуясь с КПК
»117. Несмотря на поворот к сотрудничеству, образ Гоминьдана в СССР всё же значительно изменился по сравнению с периодом до 1927 г.
Можно согласиться с мнением А. М. Ледовского, объясняющего подход советских дипломатов и работников других советских учреждений в Китае их идеологическим воспитанием, тем, что они «подстраивались под эту официальную пропагандистскую волну, руководствуясь чувствами солидарности с китайскими коммунистами, а также желанием застраховать себя от опасности быть заподозренными в симпатиях к гоминьдановскому „буржуазно-помещичьему режиму“, как он оценивался в советских официальных кругах. И дело не только в чувстве „самосохранения“, но и в том, что советские дипломаты, как и другие работники советских учреждений, были воспитаны на классовых принципах, на социалистической идеологии, были привержены этим принципам и поступали, как говорится, по доброй воле, руководствуясь этим классовым самосознанием
»118. В другом месте А. М. Ледовский поясняет: их «побуждали к этому их собственная воля и мировоззренческая приверженность советской, социалистической идеологии, принципу интернационализма, который являлся одним из главных элементов советской внешней политики
», а также чувство самосохранения, «сознание опасности навлечь на себя подозрения в симпатиях к классово чуждым для нашей государственной идеологии Гоминьдану и гоминьдановцам
»119. По мнению А. М. Ледовского, такой односторонний подход к событиям в Китае не только не содействовал достижению цели политики Москвы по укреплению единого фронта, но и подрывал его.
В то же время Москва очень настойчиво старалась не допустить появления стихийных прокоммунистических настроений в открытых официальных документах и в печати. Вероятно, впервые Гоминьдан подвергся критике в журнале «Война и рабочий класс» в августе 1943 г. В статье В. Рогова, советского корреспондента с длительным стажем работы в Китае, утверждалось: «Капитулянты и пораженцы в Гоминьдане, занимающие ответственные посты, своей бездеятельностью и своими вредными внутриполитическими интригами ослабляют силы Китая… Дело дошло до того, что под всякими провокационными предлогами в район расположения этих армий дополнительно к ранее сконцентрированным там войскам китайское командование перебросило новые дивизии, огромное количество боеприпасов и продовольствия, явно готовя нападение на 8-ю и 4-ю армии в целях их ликвидации, хотя бы ценой развязывания гражданской войны
»120. Однако подобные антигоминьдановские вспышки были в 1943 г. редки. Только в следующем году эта тенденция получила продолжение, когда ряд советских авторов обвинил Гоминьдан в прояпонских и антикоммунистических настроениях. В декабре 1944 г. автор статьи в том же журнале заявлял: «Судя по всем сведениям, приходящим из Китая, и по событиям, происходящим в этой стране, в последние годы в правящей гоминьдановской партии заметно усилилось влияние реакционных помещиков и наживающихся на войне спекулянтов и финансистов. При определении военной стратегии решающее слово нередко принадлежало генералам, прикрывающим свою прояпонскую капитулянтскую позицию маской патриотов, как это в своё время делал „отец измены“ Ван Цзин-вей
»121.
В дальнейшем советская печать всё более критически отзывалась об окружении Чан Кайши, а с начала 1945 г.— о его правительстве, по-прежнему воздерживаясь от нападок лично на лидера Гоминьдана. Как выразился один автор в ноябре 1944 г., «китайская интеллигенция всё ещё уважает Чан Кайши, но она не доверяет его окружению
»122. Такая позиция резко отличалась от позиции печати КПК, которая решительно критиковала Чан Кайши и гораздо резче отзывалась о Гоминьдане. Кроме того, советская печать, очевидно с целью избежать обвинений в разжигании внутреннего конфликта в Китае и подрыве единого фронта, вплоть до конца войны в Европе почти не обращала внимания на политику КПК. Например, важный седьмой съезд партии — первый полноценный съезд, проходивший в Яньани в апреле — мае 1945 г., даже не упоминался в советской печати123.
После окончания войны СССР перестал нуждаться в поддержке Гоминьдана и вернулся к его критике и политике полной поддержки КПК. Поддержка эта не была безоговорочной, т. к., опасаясь международных осложнений, Москва пыталась сделать борьбу КПК против Гоминьдана менее явной. В августе 1945 г. СССР даже заключил с правительством Чан Кайши договор о дружбе и союзе. Суть договора и сопутствующих документов сводилась к следующему. СССР подтверждал признание режима Чан Кайши законным правительством Китая (что означало передачу освобождённых от японцев территорий и захваченного имущества представителям этого правительства), а также обещал довести до конца войну с Японией и в случае нового нападения «третьей стороны» прийти Китаю на помощь. В обмен на это Китай признал независимость Монголии и подтверждал практически все имущественные права СССР в Китае, которые Россия утеряла, начиная с русско-японской войны 1904—1905 гг., т. е. в Порт-Артуре и Даляне, на КВЖД и ЮМЖД (получившей общее название Китайско-Чаньчуньской железной дороги) и в Синьцзяне. Авторам комментариев (крайне немногочисленных) в советской печати приходилось объяснять, что советские требования к Китаю очень скромны, а политика СССР по-прежнему основана на принципе «полного уважения к национальному суверенитету его соседей и всех других мировых стран, как великих, так и малых
»124. О возможном влиянии договора на связи Москвы с КПК никаких комментариев не публиковалось.
Заключая договор с СССР и идя на значительные уступки, Чан Кайши, вероятно, рассчитывал на то, что И. В. Сталин, получив мощные политические и коммерческие позиции в Маньчжурии и Синьцзяне, гарантированные гоминьдановским правительством, воздержится от поддержки КПК и от передачи ей Маньчжурии. Расчёт этот не оправдался. Китайский лидер оказался жертвой мифа, созданного западной прессой, о том, что И. В. Сталин — новый русский царь, под ширмой коммунистической идеологии стремящийся расширить российскую империю (теория, которая до сих пор разделяется многими исследователями). В действительности и в этот период И. В. Сталин идеологически в значительной мере оставался большевиком-марксистом, для которого расширение территории СССР было укреплением базы мировой революции, и он часто жертвовал «империалистическими» интересами СССР ради поддержки коммунистических движений за рубежом. Его никогда не покидала марксистско-ленинская вера в конечную победу мировой революции, а его политика в Китае после 1945 г.— хороший пример того, как успехи СССР во Второй мировой войне возродили надежды советского лидера на её приближение.
Действуя вразрез с надеждами и договорённостями с Чан Кайши, И. В. Сталин передал КПК промышленный потенциал и захваченные у Японии вооружения в Маньчжурии, вооружал силы КПК оружием советского и чехословацкого производства, а также всячески препятствовал переброске вооружённых сил гоминьдановского правительства в освобождённые Советской Армией районы.125 Таким образом была создана экономическая и военная база для победы КПК в гражданской войне. Действительно, слишком рьяные попытки Мао Цзэдуна сразу же развязать войну с Гоминьданом сдерживались Москвой, но это объясняется двумя основными причинами: во-первых, ни И. В. Сталин, ни кто-либо другой не ожидали столь быстрой победы КПК, во-вторых, И. В. Сталин опасался прямого вмешательства в гражданскую войну США и серьёзных международных осложнений в случае прямой военной поддержки Москвой КПК.
По этим причинам до тех пор, пока Советский Союз не вывел свои войска из Маньчжурии в мае 1946 г., советская печать, выражая официальную линию Москвы, продолжала поддерживать единый фронт, мирное разрешение конфликтов между Гоминьданом и КПК и в общем игнорировала внутрикитайскую борьбу. По словам Ч. Маклэйна, советская печать была осторожна при ссылках на гражданский кризис в Китае, «и поэтому средний российский читатель не имел о нём никакого представления до конца февраля 1946 г. … и не мог составить верного представления о масштабах кризиса до конца апреля
»126. В апреле 1946 г. в официальном журнале ВКП(б) «Большевик» утверждалось, что мирное решение конфликта с Гоминьданом всё ещё желательно, хотя в то же время отмечалось растущее влияние в нём «реакционных группировок
»127. Но уже месяц спустя «Правда» начала цитировать статьи из американской печати, в которых в обострении ситуации в Китае обвинялся лично Чан Кайши, а «Новое время» указывало, что «участие коммунистов в правительстве и Национальном собрании при таких условиях не имеет смысла и превратилось бы в комедию, которая может лишь затемнить истинное положение вещей
»128. Летом 1946 г. советская печать развернула открытую кампанию против Гоминьдана и «американской интервенции» в Китае. Она начала перепечатывать антигоминьдановские заявления лидеров КПК, поддерживать борьбу против Гоминьдана, которую вели китайские «прогрессивные силы» во главе с КПК, и потеряла интерес к переговорам между коммунистами и Гоминьданом.
В оценке причин такого поворота следует ещё раз согласиться с А. М. Ледовским, указывающим на идеологическую основу советской внешней политики. Говоря о советско-китайском договоре 1945 г., он пишет: «Почему СССР пошёл на нарушение указанного договора и соглашений, которые вполне обеспечивали его государственные, национальные интересы, имея в виду долгосрочное экономическое и оборонное сотрудничество с Китаем (договор был заключён до 1975 г. и предусматривалось его продление), использование в этих целях КЧЖД, Порт-Артура, Дальнего и ряда других объектов? Объяснение следует искать в идеологизации внешней политики и международных отношений, в конфронтации СССР и США на Дальнем Востоке, в обострении общей международной напряжённости. Как справедливо отмечают некоторые китайские историки, СССР стремился противодействовать политике США в Китае и на Дальнем Востоке в целом, опираясь на КПК как на более близкого идеологического союзника. К этому следует добавить, что своей поддержкой КПК в Маньчжурии советское руководство преследовало более широкие стратегические цели, а именно воздействовать на развитие национально-освободительного и революционно-демократического движения не только в Китае, но и в других странах Азии. Позиция, занятая советским правительством, придавала твёрдость руководству КПК в конфронтации с Гоминьданом
»129.
Стремление стимулировать революции в Азии и противостоять лидеру «мирового империализма» США рассматривались послевоенным сталинским руководством как более приоритетные задачи по сравнению с обеспечением геополитических интересов СССР, точнее, геополитические интересы СССР рассматривались И. В. Сталиным через призму большевистских представлений о мировой истории и международных отношениях. В связи с этим вряд ли можно согласиться с выводами исследователей, полагающих, что после войны И. В. Сталин проводил чисто империалистическую политику по захвату территорий в Европе и Азии, которые часто делаются, опираясь на работы слабо информированных западных исследователей или весьма сомнительных источников, типа слов И. В. Сталина и В. М. Молотова в пересказе Ф. И. Чуева130. Согласно часто приводимой цитате из книги Ф. И. Чуева, бывший сталинский министр иностранных дел В. М. Молотов сказал ему как-то: «Хорошо, что русские цари навоевали нам столько земли. И нам теперь легче с капитализмом бороться… Свою задачу как министр иностранных дел я видел в том, чтобы как можно расширить пределы нашего Отечества. И кажется, мы со Сталиным неплохо справились с этой задачей
»131. Даже если эти слова действительно были сказаны и отражали подход советского руководства того времени, они вовсе не говорят о «красном национализме». Сталинское руководство рассматривало территорию СССР, унаследованную от дореволюционной России, как базу для борьбы с капитализмом. Следовательно, её расширение означало и экспансию мирового социализма: раз история распорядилась так, что база революции находится в России, для революционера естественно быть русским патриотом, расширять территорию России и обеспечивать её интересы.
Сомнителен и сделанный на основе стенограмм переговоров советского руководства с делегациями правительства Чан Кайши вывод о том, что, подписывая в августе 1945 г. договор с Китаем, «СССР предполагал, что единый Китай будет создан на путях национального примирения и согласия
»132. Делать выводы о реальных намерениях И. В. Сталина на основе записей его официальных переговоров с представителями Чан Кайши столь же необосновано, как и говорить, что И. В. Сталин боролся за демократию в Восточной Европе, основываясь на его беседах с западными политиками и дипломатами. Документы, в которых советское руководство излагает свои истинные мысли, и его реальные действия по созданию военно-экономической базы для наступления КПК говорят о совершенно другой политике в Китае. Один из примеров: в мае 1948 г. Политбюро ЦК ВКП(б) направило директиву в советское посольство в Китае, которая требовала от посла на вопросы о советской позиции по отношению к Китаю отвечать, что она «определена советско-китайским договором 1945 года и основана на принципе невмешательства во внутренние дела Китая
»133. В то же время из опубликованных документов известно, что в этот период И. В. Сталин находился в прямом контакте с Мао Цзэдуном, посылая ему и получая в ответ секретные радиограммы через врача-связника А. Я. Орлова, находившегося при Мао Цзэдуне до 1949 г. О радиосвязи, которая велась по линии Главного разведывательного управления Министерства обороны СССР, не знали ни в советском МИДе, ни в посольстве в Китае134. В телеграммах шло обсуждение и давались рекомендации по всем вопросам политики КПК. Комментируя предлагаемый Москвой проект ответа на мирные предложения Гоминьдана, И. В. Сталин в телеграмме 11 января 1949 г. откровенно разъяснял: «Как видно из сказанного выше, наш проект Вашего ответа на предложение Гоминьдана рассчитан на срыв мирных переговоров. Ясно, что Гоминьдан не пойдёт на мирные переговоры без посредничества иностранных держав, особенно без посредничества США. Ясно также, что Гоминьдан не захочет вести переговоры без участия Чан Кайши и других военных преступников. Мы рассчитываем поэтому, что Гоминьдан откажется от мирных переговоров при тех условиях, которые выставляет КПК. В результате получится, что КПК согласна на мирные переговоры, ввиду чего её нельзя обвинять в желании продолжать гражданскую войну. При этом Гоминьдан окажется виновником срыва мирных переговоров. Таким образом, мирный маневр гоминьдановцев и США будет сорван, и Вы можете продолжать победоносную освободительную войну…
»135
Ясно, что в данный период И. В. Сталин использовал политику переговоров с Гоминьданом и признание правительства Чан Кайши в качестве законного правительства Китая, проводимую с иезуитской педантичностью (например, когда в феврале 1949 г. правительство Чан Кайши переехало в Гуанчжоу, из всех иностранных послов за ним последовал лишь один советский посол Н. В. Рощин), для прикрытия истинных целей по поддержке планов КПК по захвату власти.
Сталин и Китай после победы КПК
Когда КПК в 1949 г. пришла к власти, Китай стал официально считаться братским социалистическим государством, нуждающимся в помощи для борьбы с остатками полуколониального и полуфеодального режима и построения социалистического общества. Официальные средства массовой информации в 1950-е гг. массированно пропагандировали вечную и нерушимую советско-китайскую дружбу, Китай был объявлен наиболее важным из всех советских союзников. Эти настроения выразились в знаменитой песне «Москва — Пекин», которую в те годы знали практически все в СССР:
Русский с китайцем — братья навек,
Крепнет единство народов и рас.
Плечи расправил простой человек,
С песней шагает простой человек,
Сталин и Мао слушают нас!Москва — Пекин! Москва — Пекин!
Идут, идут вперёд народы.
За светлый труд, За прочный мир
Под знаменем свободы!..В мире прочнее не было уз.
В наших колоннах — ликующий май.
Это шагает Советский Союз,
Это могучий Советский Союз,
Рядом шагает новый Китай!136
Больше песен о И. В. Сталине, стоящем рядом с лидером какой-либо другой дружественной страны, не было (по крайней мере, в Советском Союзе). Такой привилегии удостоился лишь лидер огромного Китая. С многочисленных плакатов, посвященных советско-китайской дружбе, смотрели два вождя, счастливые китайские рабочие и крестьяне и т. п. Хотя точных данных о глубине воздействия пропаганды нет, анализ вторичных источников, таких как воспоминания и неполитическая литература того времени, показывают, что это воздействие было довольно сильным.
История взаимоотношений между КПК и Гоминьданом была переписана вновь. В книгах, издаваемых в начале 50-х гг. Чан Кайши представал коварным соглашателем с японцами, сдерживаемым лишь гневом народа от сепаратного с ними сговора. Ситуация после разгрома японцев представлялась как американское военное нашествие на Китай, проводником которого был Гоминьдан. «По американским планам, на американские деньги, американским оружием под руководством американских генералов Чан Кайши начал гражданскую войну, которая с небольшими перерывами продолжалась долгие четыре года… Фашистская камарилья Чан Кайши всё поставила на карту. Её злобная мстительность и кровожадность вполне отвечали алчности и беспощадности американских монополий, которые ни за что не хотели выпустить из своих рук такую добычу, как Китай
»,— говорилось в одной из предназначенных для массового читателя книг того времени137. Естественно, всё было исправлено благодаря героической борьбе и доблестной победе КПК. Эпиграфом к книге служат слова И. В. Сталина: «Пусть крепнет и впредь великая дружба Китайской Народной Республики и Советского Союза…
»138
В том же духе была выдержана вышедшая в 1950 г. книга известного писателя К. М. Симонова «Сражающийся Китай». Осенью 1949 г. он побывал в Китае в составе делегации деятелей советской культуры. Гражданская война ещё не закончилась, и К. М. Симонов, во время Великой Отечественной войны работавший военным корреспондентом, решил написать об армии КПК и о том, как китайские коммунисты строят новую жизнь. И у К. М. Симонова КПК воевала «с гоминьдановской военщиной и стоящими за спиной Гоминьдана американцами
»139. Гоминьдан и его режим представали у него как насквозь прогнившие, полностью подконтрольные США и мировому империализму, а КПК — как организованная и честная сила, ведущая страну к новой, счастливой жизни. Как и у В. В. Маяковского, у К. М. Симонова китайская революция — продолжение российской в международном масштабе: «здесь, в Китае, с особенной силой ощущаешь всемирно историческое значение Великой Октябрьской революции, ту ни с чем не соизмеримую роль, какую победа социализма в России сыграла в подъёме революционного движения на всём земном шаре
»140. Подобные произведения, вместе с переводами некоторых прокоммунистически настроенных западных авторов, создавали образ КПК и нового Китая у рядовых советских людей141.
Что касается подхода советского руководства, то он был основан на прежних идеологических принципах. Их следствием явились два основных момента. Во-первых, И. В. Сталин, в полном соответствии с марксистской традицией, продолжал считать Китай отсталой страной, в которой пришедшие к власти коммунисты должны сначала завершить задачи буржуазно-демократической революции, а уже затем переходить к социалистическим преобразованиям. Именно поэтому он не рекомендовал китайским коммунистам спешить с тотальной национализацией в экономике и уничтожением враждебных классов в политике. Характерны его советы, высказанные в телеграмме в ЦК КПК от 20 апреля 1948 г.: «Надо иметь в виду, что китайское правительство после победы Народно-освободительной армии Китая будет по своей политике, по крайней мере, в период после победы, длительность которого сейчас трудно определить, национальным революционно-демократическим правительством, а не коммунистическим. Это значит, что не будут пока что осуществлены национализация всей земли и отмена частной собственности на землю, конфискация имущества всей торговой и промышленной буржуазии от мелкой до крупной, конфискация имущества не только крупных землевладельцев, но и средних и мелких, живущих наёмным трудом. С этими реформами придётся подождать на известный период
»142. И. В. Сталин даже рекомендовал не запрещать забастовок, чтобы не потерять доверия рабочих, а также не ликвидировать некоммунистические партии, лишь объединив их в рамки единого фронта под руководством коммунистов, а некоторых их представителей ввести в правительство, объявив его коалиционным (оба предложения вызвали возражения руководства КПК)143.
После победы КПК И. В. Сталин не изменил своего мнения. Его собственноручные пометки на письменном докладе делегации ЦК КПК во главе с Лю Шаоци говорят о том, что советский лидер одобрял определение китайского режима как «народно-демократической диктатуры
», которая, в отличие от «диктатуры пролетариата
», должна включать в себя, кроме рабочих, также и крестьян, мелкую буржуазию и даже представителей организаций «либеральной буржуазии
», желающих бороться против империализма, феодализма и бюрократического капитала144.
Во-вторых, И. В. Сталин рассматривал Китай как важнейшего союзника, за счёт которого база мировой революции значительно расширилась. Хотя центр мировой революции остался в Москве, Китай, по замыслу советского лидера, должен был стать центром её распространения в Азии. На встрече с Чжоу Эньлаем 3 сентября 1952 г. И. В. Сталин предложил Китаю выступить с инициативой о создании азиатской межгосударственной организации, параллельной ООН. Говоря об азиатских участниках Конгресса мира, который было намечено провести в Пекине, он отметил, что «теперь надо будет вести линию на то, чтобы первая роль принадлежала КНР, потому что: 1) инициатива в созыве конгресса принадлежит Китаю; 2) так будет лучше, поскольку СССР входит в Азию лишь частично, а Китай весь в Азии, ему должна принадлежать первая роль
»145. Обобщая взгляды И. В. Сталина на Китай накануне победы коммунистов, С. Н. Гончаров, Дж. Льюис и Сюэ Литай делают вывод: «Представления Сталина о глобальной роли Китая начали приобретать очертания. Китайцы получат собственную сферу ответственности и влияния, но будут действовать под всеобъемлющим контролем Москвы так, чтобы не поставить под угрозу её целей. Китайцев поощряли на более активные и агрессивные действия в Азии, но лишь до той степени, чтобы в них не оказалась замешана Москва
»146.
С точки зрения этой марксистской логики азиатский центр мировой революции необходимо было всячески укреплять, несмотря на то, что подобное укрепление, исходя из обычных геополитических соображений, должно было бы считаться крайне опасным. Прежде всего, И. В. Сталин хотел видеть Китай крупной державой, он решительно выступает за территориальное единство Китая, настаивая лишь на праве МНР на независимость, признанном ещё правительством Чан Кайши в 1945 г. Монголия считалась в Москве территорией «мирового социализма» задолго до 1949 г., в то же время И. В. Сталин отверг просьбы монгольских лидеров о присоединении к СССР, не желая раздражать Китай.
Во всех прочих вопросах советское руководство настойчиво рекомендовало китайским коммунистам решительно консолидировать свою власть на возможно большей территории. В телеграмме о беседе с Мао Цзэдуном во время своего секретного визита в Китай в январе-феврале 1949 г. А. И. Микоян сообщал: «Я передал Мао Цзэдуну, что наш ЦК не советует китайской компартии чересчур размахиваться в национальном вопросе путём предоставления независимости национальным меньшинствам и тем самым уменьшения территории Китайского государства в связи с приходом к власти китайских коммунистов. Следует дать национальным меньшинствам автономию, не независимость
»147. И. В. Сталин также настойчиво советовал Мао Цзэдуну захватить и держать под жёстким контролем Синьцзян (традиционную сферу российского влияния)148 и Тибет, не допуская там влияния Британии и других держав. Советский лидер поддерживал также освобождение Тайваня, лишь не желая напрямую участвовать в военной операции из опасения американского вмешательства149.
Только марксистской идеологией И. В. Сталина, его видением китайского коммунистического режима в качестве классово близкого можно объяснить политику всесторонней помощи Китаю, а также передачу ему значительного числа прав и привилегий, за несколько лет до этого вырванных у «классово чуждого» режима Чан Кайши. На переговорах с китайскими лидерами И. В. Сталин активно отстаивал сохранение некоторых советских коммерческих интересов в Синьцзяне и Маньчжурии (в основном в виде смешанных компаний с советским участием), но, в то же время, настаивал на передаче Китаю КЧЖД, Дальнего и Порт-Артура и отказе от «всех имущественных прав и привилегий в Маньчжурии и от весьма важных стратегических позиций, которые были предоставлены СССР по договору и соглашениям, заключённым 14 августа [1945 г.] с правительством Китайской республики
»150. Передача КЧЖД, Дальнего и Порт-Артура была задержана лишь в связи с настоятельными просьбами китайской стороны: Китай не мог самостоятельно содержать эти объекты, а кроме того, во время корейской войны Мао Цзэдун считал советское военное присутствие в китайских портах гарантией от американского вторжения.
Все эти действия могут быть объяснены только стремлением И. В. Сталина завоевать доверие Мао Цзэдуна и поднять авторитет СССР в КНР, а КНР в мире, который был необходим молодому государству для осуществления возложенной на него задачи по руководству революцией в Азии. Кроме того, с точки зрения Кремля если уменьшение власти, контролируемой территории и имущества гоминьдановского режима имело смысл, т. к. это уменьшало силы контрреволюции, то в отношении коммунистического режима в Китае необходимо было проводить обратную политику. В телеграмме для Мао Цзэдуна от 5 февраля 1949 г. И. В. Сталин прямо указывал, что держать советские войска в Порт-Артуре после прихода к власти коммунистов нет смысла, т. к. обстановка в корне изменилась151. С коммунистической точки зрения Советский Союз ничего не терял, передавая землю и военные базы коммунистическому правительству Китая, т. к. несущественно, коммунистическое правительство какой страны контролирует данную территорию, поскольку после победы коммунизма национальные правительства исчезнут. В то же время «уступки» Китаю поднимали популярность братской КПК, что И. В. Сталин считал полезным и для СССР, и для всемирного коммунизма.
Возможно, И. В. Сталин имел некоторые сомнения по поводу личности Мао Цзэдуна, но, согласно марксистскому мировоззрению, личность вторична по отношению к законам истории.
Советский лидер признавал в Мао Цзэдуне лидера китайских коммунистов и старался усилить его власть и завоевать его доверие. По мнению И. В. Сталина, коммунистический лидер неотделим от авторитета своей страны, а Китай нуждался в таком авторитете, чтобы играть предназначенную ему Москвой роль лидера революции в Азии. Вероятно, по этой причине в 1949 г. И. В. Сталин отрёкся от вождя промосковской фракции в КПК Ван Мина, который проиграл Мао Цзэдуну в борьбе за власть152. В том же году И. В. Сталин принял решение, которое с точки зрения интересов советского государства выглядит абсолютно абсурдным. Он сообщил посетившему Советский Союз Мао Цзэдуну, что член Политбюро КПК и лидер партии в Маньчжурии Гао Ган имеет прямые связи с Кремлём (по словам Н. С. Хрущёва, И. В. Сталин передал Мао Цзэдуну записи разговоров Гао Гана с представителем Москвы, содержавшие информацию о ситуации в руководстве КПК)153. Несмотря на свои сомнения, И. В. Сталин полностью положился на Мао Цзэдуна, считая, что фундаментальные классовые интересы возьмут верх над более мелкими проблемами. В исторической перспективе эта логика оказалась ошибочной, но И. В. Сталин не узнал об этом, т. к. не дожил до начала советско-китайского конфликта.
Образ Китая в начала эпохи Хрущёва
Китайская политика Н. С. Хрущёва, в особенности на первом этапе, значительно отличалась от сталинской. Как видно, например, из воспоминаний нового советского лидера, он сам был очевидной жертвой сталинской пропаганды и воспринимал пролетарский интернационализм ещё более серьёзно, чем его предшественники. Считая сталинский путь к коммунизму слишком медленным и бюрократическим, он верил, что совершенное общество будет построено к 1980 г., и даже включил это обещание в программу КПСС. Поэтому сталинская политика сдерживания слишком поспешной всеобщей национализации в Китае была отменена, забыто на первых порах было и недоверие И. В. Сталина к Мао Цзэдуну. Изменение это не было единовременным. Так, по данным Л. П. Делюсина, работавшего в то время в «Правде» и получившего задание написать предложения к речи Н. С. Хрущёва, ему через главного редактора Д. Т. Шепилова было передано единственное пожелание советского лидера: написать, что «возможности единоличного хозяйства ещё не исчерпаны
»154.
Однако в целом новое советское руководство полностью поддержало китайскую политику ускоренных социалистических реформ. В результате, исходя из интересов международного коммунизма, как он их понимал, Н. С. Хрущёв передал Китаю фактически все права и привилегии, сохранённые И. В. Сталиным, причём, как ни странно, инициатива в большинстве случаев исходила из Москвы. По словам самого Н. С. Хрущёва, китайцы поначалу вовсе не настаивали на возвратах155. Новая политика дала свои плоды, 1953—1955 гг. стали периодом самого тесного сближения Москвы и Пекина как в идеологии, так и в политике156.
Объясняя причины советской массированной военной и экономической помощи Китаю, а также передачи Пекину советской собственности, Н. С. Хрущёв в своих воспоминаниях в полном соответствии с коммунистическим подходом к миру, говорит: «Я считал, что это полезно и нам, и Китаю. Мы рассматривали укрепление Китая как упрочение социалистического лагеря и обеспечение наших восточных границ. Тут интересы у нас с Китаем были общими, и мы относились к его просьбам, как к собственным нуждам, и шли навстречу настолько, насколько имели материальные возможности удовлетворить все просьбы… Мы затратили много сил и средств для приведения в надлежащий вид крепости Порт-Артур, заново вооружили её и держали там довольно солидный гарнизон. Всё это позднее мы передали Китаю. Кроме того, отказались от своих прав на Китайско-Восточную железную дорогу в Маньчжурии. По-моему, такое решение было правильным: мы не хотели порождать конфликт, не хотели иметь собственности на территории другого социалистического государства. И мы покончили с этим вопросом, передав её Китаю
»157.
Таким образом, политика Н. С. Хрущёва в отношении Китая в первый период была более «левой», сильно напоминая предложения «левых» оппозиционеров 20-х гг. Полностью поддерживая сталинский курс на союз с китайскими коммунистами, в своих воспоминаниях он постоянно критикует И. В. Сталина за чрезмерную традиционность мышления в отношении Китая и недостаточно интернационалистический подход, который он иногда сравнивает с царским. При рассказе о территориальных претензиях Китая, в котором чётко выражается различие подходов И. В. Сталина и Н. С. Хрущёва, последний замечает, что между братскими коммунистическими странами вопрос о территории вообще стоять не может: «Если поставить сейчас вопрос о пересмотре границ и искать какие-то исторические давности, когда границы были иными, то можно зайти очень далеко. Это не приведёт к укреплению дружеских отношений между нашими странами, а, наоборот, рассорит нас. Кроме того, для настоящего коммуниста-интернационалиста, который должен видеть дальше национальных границ, этот вопрос вообще не имеет значения в деле конечной мировой победы революционного движения и в рамках марксистско-ленинской философии
»158.
В то же время даже в этот период советское руководство было обеспокоено проблемой китайской «демографической экспансии». Н. С. Хрущёв, в духе интернационализма сам пригласивший китайских рабочих в Сибирь в 1954 г., чтобы помочь Пекину решить проблему безработицы, вскоре забеспокоился и снял своё предложение. Китайская сторона продолжала настаивать, но Москва отказалась принимать новых китайских рабочих, кроме тех, что уже успели приехать. Позднее Н. С. Хрущёв вспоминал свои аргументы того периода, высказанные коллегам в советском руководстве: «Вы заметили, как Мао охотно согласился дать людей, причём в Сибирь? Как вы думаете, почему? Помните, он говорил насчёт ассимиляции. Так вот, он хочет заселить Сибирь китайцами, тут и воевать не надо. Это политика дальнего прицела. Мы должны проявить осторожность: пригласить китайцев легко, а выгнать их будет очень трудно. Можно пригласить гостей, а потом такие гости выгонят хозяев. Мы можем потерять Сибирь, Владивосток, и это на китайском языке будет называться ассимиляцией
»159.
Подобные представления советских руководителей, наложившиеся на обычную для коммунистов политику закрытости, стали одной из причин того, что в течение всего периода «братской» советско-китайской дружбы в 50-е гг. «граница, несмотря на проведение некоторых показательных мероприятий по укреплению добрососедства, оставалась закрытой, а любая поездка в Китай жителей Дальнего Востока оформлялась и осуществлялась через Москву
»160. Позднее, в 60-е гг., когда пограничный конфликт привел к вооружённым столкновениям, советские власти даже изменили китайские названия населённых пунктов на Дальнем Востоке на русские, чтобы о китайском присутствии там не осталось никакой памяти.
Начало неофициальных дискуссий о Китае в СССР
После 1955 г., хотя Китай официально продолжал провозглашаться лучшим другом Советского Союза, а политика КПК по-прежнему восхвалялась как последовательная и верная, действительная атмосфера на высшем уровне начала ухудшаться. Первый существенный удар по двусторонним отношениям нанесла критика Н. С. Хрущёвым «культа личности» И. В. Сталина, с которой советский вождь впервые выступил на ⅩⅩ съезде КПСС в феврале 1956 г. Мао Цзэдун опасался, что эта критика будет использована его политическими противниками в КПК, в том числе и лично против него. Кроме того, Мао Цзэдун не одобрял идею Хрущёва о возможности «мирного перехода к социализму».
Те советские коммунисты, которые получали более полную информацию о ситуации в Китае, по-разному относились к кампаниям, проводившимся руководством Мао Цзэдуна. Г. А. Арбатов, долгое время работавший в Отделе по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран ЦК КПСС161 под руководством заведующего отделом, секретаря ЦК Ю. В. Андропова, посвятил целую главу своих воспоминаний влиянию советско-китайского конфликта на внутренние политические и идеологические дискуссии в СССР. По словам Г. А. Арбатова, уже в конце 1950-х гг. события в Китае оказывали влияние на политическое мышление советской интеллектуальной элиты, хотя это влияние было не таким сильным, как позже, когда разразился открытый конфликт. Г. А. Арбатов, в то время либеральный партиец, вспоминает, что когда Мао Цзэдун в ответ на критику «культа личности» И. В. Сталина на ⅩⅩ съезде КПСС выдвинул лозунг «Пусть расцветают сто цветов», «имея в виду, как многим из нас тогда казалось, плюрализм, свободу выражения и отстаивания мнений в идеологии, науке, культуре, это встретило горячую поддержку не только творческой интеллигенции, но и всех сторонников ⅩⅩ съезда в нашей партии и стране. Но зато сталинисты взяли реванш, когда, дав расцвести „ста цветам“, тогдашнее китайское руководство начало их безжалостно выкашивать и всё обернулось вроде бы самой заурядной провокацией
»162.
Впервые открытые различия в советских оценках событий в Китае проявились в официальных советских публикациях во время «большого скачка». В тот период официальный разрыв между двумя компартиями ещё не произошёл и советская печать продолжала сообщать о событиях в Китае хотя, возможно, и с меньшим энтузиазмом, но дружественно. В то же время сторонники официальной линии в ЦК КПСС уже критиковали «большой скачок» в закрытых внутрипартийных документах за «левацкий» уклон и отход от традиционной советской модели экономического развития. Некоторые партийные либералы, напротив, позитивно оценивали «большой скачок». Они использовали демонстрацию «успехов» китайских коммунистов для пропаганды «творческой» и демократической, по их мнению, китайской модели социализма, которая, в отличие от застойной и консервативной советской модели, якобы была способна высвободить энергию масс. Такую позицию занимали, например, многие молодые авторы журнала «Советское китаеведение», закрытого после выхода всего лишь четырёх номеров, в том числе и за излишний энтузиазм в отношении пекинских политических новшеств163.
Положительные оценки «большого скачка» и его противопоставление советскому застойному варианту «социализма» были в тот период характерны для широких кругов советской и даже мировой коммунистической общественности. Так, по свидетельству Л. П. Делюсина, возвращаясь из поездки в Китай в 1959 г., в аэропорту Иркутска он беседовал с советскими специалистами, работавшими в этой стране. Среди них господствовало мнение, что Мао Цзэдун нашёл верный и быстрый путь к коммунизму, в то время как СССР топчется на месте. Подобные настроения господствовали и среди тогдашних коллег Л. П. Делюсина — представителей компартий различных стран (в том числе КПСС), работавших в международном коммунистическом журнале «Проблемы мира и социализма», издававшемся в Праге. Многие из них считали, что Китай первым войдёт в коммунизм. Л. П. Делюсин вспоминал, что во время выступления перед коллегами с впечатлениями о поездке в Китай он привёл слова руководителя «народной коммуны» о том, что такое коммунизм. По словам этого китайского коммуниста, при коммунизме у каждой семьи будет кусок мыла, две пары тапочек, велосипед и будильник. Это несколько развеселило представителей европейских компартий, но общего энтузиазма не убавило164.
Критика маоизма и образ Китая в СССР
Разрыв между двумя партиями в начале 60-х гг. дал советским китаеведам и общественности в целом уникальный шанс легальной критики социалистического государства. Пример здесь подавали сами власти, развязавшие кампанию осуждения Мао Цзэдуна и КПК за «левацкий» уклон и отход от истинной (советской) модели социализма. Критика «гегемонистского», «шовинистического» маоистского режима превратилась в индустрию: для создания теоретической базы такой критики в 1966 г. ЦК КПСС специально создал в Академии наук СССР новый Институт Дальнего Востока (ИДВ), тесно связанный с Отделом по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран ЦК КПСС. Сотрудники института, советские журналисты и политологи из других учреждений начали издавать многочисленные статьи, книги и обзоры, посвящённые критике китайской политики.
Официальная критика велась с целью убедить собственных граждан в крахе внутренней политики КПК, которая завела Китай в глубокий кризис, в том, что маоистский Китай представляет угрозу миру и международной безопасности. Она содержала в себе и некоторую объективную информацию о внутренней ситуации в Китае, о фракционной борьбе внутри КПК, о тяготах жизни китайского народа. Однако значительная часть этой информации подавалась искажённо. Официальные пропагандисты привыкли давать отпор зарубежным исследователям СССР и поэтому были знакомы с западными оценками положения в своей собственной стране. В связи с этим, критикуя маоистский Китай, они часто переносили на него эти оценки (которые в отношении СССР признавались клеветническими). Китай в зеркале советской пропаганды, таким образом, в какой-то мере становился негативным отражением СССР. Это отражение лишь частично соответствовало реальному положению дел в Китае. Так, например, описывая китайскую «культурную революцию», советским авторам трудно было представить значительную долю спонтанности в её проведении и фактическую потерю контроля компартии за положением дел в стране. «Культурная революция», как правило, подавалась в СССР как хорошо продуманная кампания, проводимая по чёткому плану одной из группировок руководства, стремящейся захватить всю власть. В области внешней политики угрозы Мао Цзэдуна развязать третью мировую войну преподносились как реальная возможность и мало внимания обращалось на развал китайской армии и её организационную и военно-техническую отсталость. Нагнетался страх относительно громадного военного потенциала КНР, основанный прежде всего на численности населения и армии. Этот страх, естественно, достиг своего апогея в период военных столкновений на границе в конце 60-х гг.
Если целью советских властей, начавших кампанию критики, было осуждение КНР за непослушание «старшему брату», активно включившиеся в кампанию сторонники реформ воспользовались предоставленной возможностью для завуалированной критики советских порядков. Под вывеской «маоизма», вероятно впервые за все годы советской власти, стало возможно критиковать практически все недостатки коммунистической системы: деспотическую личную власть, диктатуру партийной бюрократии, развал экономики, тяжёлые жизненные условия и бесправие населения, милитаризм и экспансионизм. Единственное условие: необходимо указать, что всё это вызвано в Китае маоистскими извращениями истинного и совершенного советского социализма. Впрочем, подобная маскировка не могла обмануть тех, кто хотел понимать165.
Первоначально представления реформаторов-антисталинистов о Китае Мао Цзэдуна практически совпадали с выводами властей. Так, А. Е. Бовин в первой половине 60-х гг. пришёл к выводу, что «в Китае победил мелкобуржуазный, крестьянский революционализм, с его нетерпением, склонностью к экстремизму, левачеством, культом насилия, с его нежеланием считаться с объективными обстоятельствами. Отсюда — „большой скачок“, стремление „досрочно“ построить коммунизм… отсюда — курс на обострение международной обстановки, на революционную войну… Отсюда — критика решений ⅩⅩ съезда КПСС, возвеличивания Сталина
»166. Однако если консерваторы-сталинисты в СССР критиковали китайских коммунистов за отход от планомерной, стабильной сталинской модели (ведь и сам И. В. Сталин подталкивал китайских коллег к большей сдержанности), то антисталинисты — за деспотизм, отход от принципов «социалистической демократии», «культ личности Мао Цзэдуна». В результате дискуссия о Китае превратилась в дискуссию о дальнейшем ходе развития самого советского общества.
Г. А. Арбатов объясняет, что «силам, стоявшим на стороне перемен, на стороне ⅩⅩ съезда, начавшаяся дискуссия с китайским руководством давала прямую возможность, обсуждая прозвучавшие из Пекина обвинения в наш адрес, открыто высказаться по многим вопросам теории и политики. Эта возможность была тем более важна, что другой почти не представлялось, ибо к тому времени наши „малые“ и „большие“ руководители почти единодушно такие высказывания начинали прикрывать, поощряя противоположную, весьма консервативную линию
»167.
Ф. М. Бурлацкий, также работавший в ЦК под руководством Ю. В. Андропова, в своей книге об Н. С. Хрущёве и его эпохе приводит интересный эпизод, показывающий политическое значение для либерального сознания использования китайского примера наряду с традиционными русскими источниками. Работая в «Правде» после падения Н. С. Хрущёва, Ф. М. Бурлацкий за два с половиной года написал серию статей, в которых, по собственным словам, «прямо или косвенно
» критиковал режим личной власти и отстаивал «демократические идеи ⅩⅩ съезда
». Он объясняет: «Я широко пользовался эзоповским языком и стилем, который позаимствовал отчасти у героя своей первой книги Н. А. Добролюбова. Ему, писавшему в критический период первой реформации России в 60-х годах прошлого столетия, постоянно приходилось прибегать к непрямому, косвенному изложению своих взглядов. Всё искусство состояло в том, чтобы найти подходящий объект, материал, на котором можно было демонстрировать свою позицию, не рискуя полностью потерять возможность обращения к читателю
»168. Одним из таких объектов, пишет Ф. М. Бурлацкий, был «режим личной власти в Китае. Наш конфликт с Мао Цзэдуном продолжался, и это открывало некоторую брешь для сопоставления маоизма и сталинизма
»169. Статьи о Мао Цзэдуне не были напечатаны в «Правде», поскольку они не получили одобрения консервативного партийного идеолога М. А. Суслова, который, по словам Ф. М. Бурлацкого, «обладал удивительным нюхом на всякую крамолу и тотчас же схватил основной замысел — рассчитаться со Сталиным, используя китайский пример
»170. Ф. М. Бурлацкий сумел опубликовать эти статьи лишь позже, после увольнения из «Правды», в книге «Маоизм или марксизм?»171. Аналогичные цели преследовали в своих публикациях о маоистском Китае и другие антисталинистски настроенные авторы172.
Г. А. Арбатов также отдавал себе отчёт в том, что либералы из ЦК КПСС рассматривали маоистскую платформу в свете борьбы внутри самой КПСС. Характеризуя маоизм, он фактически отождествляет его со сталинизмом: «Это была платформа воинственно сталинистская, апологетическая в отношении самого Сталина, восхвалявшая… самые вредные, самые отталкивающие стороны его политики: фетишизацию силы, в том числе военной, физического насилия в революции, строительстве социализма и внешней политике, оголтелое сектантство и нетерпимость в отношении всех инакомыслящих, крайний догматизм в теории, примитивизацию и вульгаризацию марксизма
»173 . Согласно Г. А. Арбатову, конфликт с китайским руководством, проводившим такой сталинистский курс, оказывал положительное влияние на политику Н. С. Хрущёва. По его мнению, в атмосфере контрнаступления сталинистов после относительно либерального ⅩⅩⅡ съезда КПСС «само развитие конфликта с КНР как бы подталкивало вперёд Н. С. Хрущёва, с конца 1962 года слишком часто оглядывавшегося назад — особенно в идеологии
». Теперь, когда Китай стал врагом, проводившаяся этой страной политика была автоматически дискредитирована. Вследствие этого, по словам Г. А. Арбатова, в 1962—1964 гг. китайский фактор «подрывал позиции активизировавшихся сталинистов
», а дискуссии с китайским руководством в целом оказали позитивный эффект на внутреннюю ситуацию в СССР, что «проявилось в литературе и искусстве, а также в науке, в теории
». Г. А. Арбатов упоминает публикацию повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», которая стала возможной лишь в этой новой атмосфере, и возобновление дискуссий по политическим вопросам, особенно об И. В. Сталине и сталинизме, которые стали ещё смелее, чем раньше174.
Некоторые антикитайские выступления явно предназначались для внутренней советской аудитории и рассматривались как средство выражения антисталинистских взглядов. Наиболее яркий пример — знаменитое «Открытое письмо ЦК КПСС», опубликованное в июле 1962 г., во время бесплодных переговоров с китайской делегацией в Москве. Это письмо было ответом на «Открытое письмо КПК», в котором критиковалась хрущёвская политика десталинизации и его стратегия мирного сосуществования с Западом. Обмен письмами сделал межпартийный конфликт публичным. Вспоминая обстоятельства составления советского «Открытого письма», Г. А. Арбатов пишет: «Должен сказать, что переговоры представителей двух партий, а затем „Открытое письмо“ давали очень серьёзную возможность развить свою аргументацию, глубже обосновать линию ⅩⅩ съезда. И участники этой работы, включая некоторых секретарей ЦК (в первую очередь Ю. В. Андропова), консультантов и советников, сделали всё, чтобы её использовать. Думаю, все мы понимали ответственность момента, учитывали, как важно было закрепить начавшееся в связи с письмом КПК от 14 июня контрнаступление
»175. Следующие строки письма явно обращены не только к руководству КПК, но и к сталинистам в рядах КПСС:
Навсегда ушла в прошлое атмосфера страха, подозрительности, неуверенности, отравлявшая жизнь народа в период культа личности. Невозможно отрицать тот факт, что советский человек стал жить лучше, пользоваться благами социализма. Спроси́те у рабочего, получившего новую квартиру (а таких миллионы!), у пенсионера, обеспеченного в старости, у колхозника, обретшего достаток, спросите у тысяч и тысяч людей, которые незаслуженно пострадали от репрессий в период культа личности и которым возвращены свобода и доброе имя,— и вы узнаете, что означает на деле для советского человека победа ленинского курса ⅩⅩ съезда КПСС.
Спроси́те у людей, отцы и матери которых стали жертвами репрессий в период культа личности, что для них значит получить признание, что их отцы, матери и братья были честными людьми и что сами они являются не отщепенцами в нашем обществе, а достойными, полноправными сынами и дочерьми советской родины.176
Другой партийный либерал, участвовавший в составлении письма, Ф. М. Бурлацкий, позже возглавивший группу консультантов при Ю. В. Андропове, известных своими антисталинскими взглядами, также рассматривает этот документ как факт внутриполитической борьбы с просталинскими консерваторами. Описывая процесс составления письма, Ф. М. Бурлацкий вспоминает:
Мы тут же засели за подготовку документа, проработали практически всю ночь и к утру сами удивились сделанному. Получился по тем временам чрезвычайно прогрессивный документ по всем острым вопросам дискуссий с Мао Цзэдуном. Можно было бы даже сказать об определённом продвижении вперёд, особенно относительно мирного сосуществования с Западом, прекращения «холодной войны», а также создания гарантий против реставрации режима личной власти в странах социализма. Мне довелось работать над этим последним разделом, и то, что он был принят практически без всяких поправок у руководства, составило предмет моей маленькой гордости. Кроме того, я испытывал определённое торжество, поскольку подавляющее большинство работников аппарата в ту пору придерживалось куда более осторожных и сдержанных взглядов на авторитарную власть.177
Г. А. Арбатов признаёт, что написанное им и его коллегами было верно лишь отчасти, а в значительной степени содержало благие пожелания, но таковы были правила игры. Единственным способом провозгласить какой-либо идеал в партийном документе (особенно в таком, который критиковал другую компартию) было объявить, что этот идеал уже осуществлён в СССР. Подчёркивая значение содержащегося в советском письме неприятия китайских призывов к новой мировой войне, Г. А. Арбатов отмечает: «Это была полемика не только с тогдашними китайскими руководителями, но и нашими отечественными консерваторами и сталинистами
»178.
Другой член группы консультантов Отдела ЦК КПСС, Г. X. Шахназаров, также вспоминает, что сам Ю. В. Андропов в 1964—1966 гг. поощрял подчинённых критиковать китайскую политику и идеологию и нередко сам писал критические материалы: «И главным адресатом были при этом отнюдь не китайские, а отечественные догматики. Критика маоистского „мелкобуржуазного революционализма“ позволяла не скажу обновить, но хотя бы подправить нашу теорию в духе новых веяний — и рождавшихся в наших краях, и шедших тогда от Итальянской компартии
». Г. X. Шахназаров поясняет: «Яростная идейная борьба, разгоревшаяся у нас с Китаем с конца 50-х годов, дала редкий шанс для пересмотра наиболее одиозных постулатов марксизма-ленинизма в сталинской интерпретации
»179.
Идеологический климат в СССР снова ухудшился после провокации консерваторов на открытии выставки современного искусства в Москве в ноябре 1962 г., в результате чего Н. С. Хрущёв лично обрушился с критикой на современное искусство и интеллигенцию в целом. Однако, по словам Г. А. Арбатова, примерно с середины 1963 г. по начало 1964 г. идеологическая атмосфера вновь несколько улучшилась. Описывая это улучшение, он снова подчёркивает роль дискуссий с китайскими лидерами: это произошло «в значительной степени именно под воздействием полемики с руководством КПК. Снова на страницах печати получили право гражданства темы, которые недавно были почти под запретом: критика культа личности, сталинских репрессий, обоснование необходимости развития демократии, активной борьбы за мир, договорённость с Западом
»180. На пленуме ЦК КПСС в феврале 1964 г. ветеран международного коммунистического движения, секретарь и член Президиума ЦК КПСС О. В. Куусинен воспользовался дискуссией об отношениях с Китаем для прозрачных намеков на ситуацию внутри КПСС. Он отмечал, что Мао Цзэдун отошёл от истинной «диктатуры пролетариата
», создав «диктатуру вождей
», «диктатуру личности
», и объяснял, что «социалистическая демократия — это такой цветок, который не растёт в тени культа личности
». Хотя прямых параллелей с СССР не проводилось, термин «культ личности
», использовавшийся Н. С. Хрущёвым для оценки сталинского режима, выдаёт намерение О. В. Куусинена показать, что при отсутствии «социалистической демократии
» остаётся возможность того, что революционная власть, провозгласив социалистические цели и верность коммунистическим идеалам, может трансформироваться в «диктатуру личности
» не только в Китае, но и в любой «социалистической стране
». Речь О. В. Куусинена была настолько неожиданной, что её опубликовали лишь три месяца спустя, уже после его смерти181.
В отличие от конца 1950-х гг., в 1960-е гг. призывы к реформам в СССР у либералов, как правило, сочетались с враждебным отношением к китайскому руководству и его политике, которая теперь считалась «сталинистской». Ясно, что после начала открытых споров между КПСС и КПК в 60-е гг. реформаторы-антисталинисты в советском руководстве и интеллектуальной элите полностью освободились от своих прежних иллюзий о коммунизме Мао Цзэдуна. Теперь они стали самыми решительными критиками Китая. По иронии судьбы, их критика, нацеленная больше на отечественных консерваторов, нанесла большой вред советско-китайским отношениям. Своей критикой, доходящей до крайностей, они пытались замедлить восстановление сталинизма в СССР и поддержать дух реформ. Однако при этом они объективно стимулировали разрыв между двумя странами. Этот парадокс сегодня признают многие из них. Оценивая тогдашнюю полемику с китайскими властями, Ф. М. Бурлацкий замечает: «Мы, как молодые тираноборцы, пытались использовать её максимально для критики Сталина и его наследия. Но ведь делалось это нередко в процессе полемики с руководством Китая. И тут „раззудись плечо, размахнись рука“ оборачивалось резким ухудшением отношений между двумя соседними гигантами
»182.
Конкретный пример такого ухудшения описывает Г. А. Арбатов. Он вспоминает, что некоторые консервативные вожди КПСС убеждали Н. С. Хрущёва не публиковать китайское «Открытое письмо» в советской печати, потому что они не хотели начинать новую дискуссию о «культе личности» и по другим идеологическим вопросам. Официально, однако, они опасались того, что письмо может оказать негативное влияние на встречу представителей двух партий. Несмотря на их аргументы, Н. С. Хрущёв велел напечатать оба письма, что дало китайцам повод прервать переговоры183.
В то время как либералы старались направить политику Н. С. Хрущёва в сторону «мирного сосуществования» с Западом, консерваторы беспокоились об ухудшении отношений с классовым союзником, и некоторые из них позднее обвиняли Н. С. Хрущёва в разрыве или полагали, что советский лидер должен разделить с китайским руководством ответственность за разрыв между Москвой и Пекином. По словам Ф. И. Чуева, оценивая хрущёвскую политику в отношении Китая, твёрдый сталинист В. М. Молотов говорил: «А вот подписали договор о запрещении ядерных испытаний — договор с империалистами Америки и Англии против социалистического Китая. Запретить Китаю иметь оружие, почему? Китай на это плюнул и завёл оружие. Франция плюнула. А мы оказались голые, и это дало главный аргумент Мао Цзэдуну, чтобы отколоться от Советского Союза… Теперь это почти невозможно исправить
»184. Вполне вероятно, что мнение В. М. Молотова разделяли другие консервативные партийные функционеры, работавшие уже после того, как самого В. М. Молотова в 1957 г. изгнали из руководства.
Были и те, кто обвинял и Мао Цзэдуна, и Н. С. Хрущёва в предательстве коммунистического идеала всемирной солидарности и за отход от истинного марксизма, и считали, что более естественно быть в союзе с социалистическим Китаем против империализма, чем ссориться с ним. Эти настроения отражены в мемуарах Г. А. Арбатова. В ноябре 1964 г., через месяц после свержения Н. С. Хрущёва, из Пекина в Москву прибыла высокопоставленная делегация для участия в праздновании годовщины Октябрьской революции. Во время приёма глава китайской делегации Чжоу Эньлай и другие китайцы подошли к советскому министру обороны маршалу Р. Я. Малиновскому и поздравили с «прекрасным антиимпериалистическим тостом
». Р. Я. Малиновский, вероятно, выпивший лишнего, сказал: «Давайте выпьем за советско-китайскую дружбу; вот мы своего Никиту выгнали, вы сделайте то же самое с Мао Цзэдуном, и дела у нас пойдут лучшим образом
»185. Интересной была и реакция заведующего Отделом ЦК Ю. В. Андропова. По словам Г. А. Арбатова, Ю. В. Андропов, пересказавший эту историю своим подчинённым, сначала выразил своё неодобрение необдуманным поведением министра, вызвавшим дипломатический скандал. Потом он поинтересовался мнением подчинённых, и Г. А. Арбатов сказал: «Может быть, это не так уж плохо, стоит ли расстраиваться?
» По словам Г. А. Арбатова, Ю. В. Андропов «помолчал, подумал, а потом рассмеялся
».186 Г. А. Арбатов явно намекает, что в глубине души Ю. В. Андропов одобрял слова Р. Я. Малиновского, пусть даже высказанные не вовремя. Это настроение среди советского руководства сыграет свою роль гораздо позднее, когда в 80-е гг. Москва наконец возьмётся за нормализацию отношений с Пекином.
Образ маоистского Китая использовался противниками сталинизма в СССР для выражения своей позиции и позднее. Так, в 1967 г., отвечая на крайне консервативный комментарий на свой проект речи Л. И. Брежнева, посвящённой 50-летию Октябрьской революции, её авторы писали советскому лидеру: «„Замечания“ пронизаны одной мыслью — восхвалением, возвеличиванием того периода в жизни партии и народа, который связан с грубыми нарушениями социалистической законности, ленинских норм партийной и государственной жизни. Нельзя не обратить внимание на то, что автор „Замечаний“ по существу смыкается с позицией группы Мао Цзэдуна…
»187
Другой пример косвенного использования китайского примера для анализа советского общества — возрождение в новой, более свободной атмосфере 60—70-х гг. концепции «азиатского способа» производства. Если критика маоизма давала возможность выразить мнение об отдельных политических аспектах советского режима, то теория «азиатского способа производства» позволила составить своеобразную всеобъемлющую концепцию советского общества, основанную на смеси марксизма, веберианства и более новой западной концепции тоталитаризма. Один из наиболее последовательных сторонников теории «азиатского способа производства» А. В. Меликсетов, в 70—80-е гг.— заведующий кафедрой истории стран Азии и Африки МГИМО МИД СССР, так определял результат столкновения традиционного китайского общества с капиталистическим западным миром:
Главной… особенностью структуры китайского традиционного общества являлось непосредственное противостояние и взаимодействие мощного аппарата власти эксплуататорского государства и огромной массы мелких производителей деревни и города, что и нашло своё воплощение в китайском деспотизме. Господствующий класс китайской деспотии, опиравшийся на определённое единство собственности и власти, выступал прежде всего в качестве коллективного эксплуататора, как «класс-государство». Представляя собой в определённой мере единство базисных и надстроечных явлений, китайский деспотизм не только был мощным орудием классового господства, но и существенно воздействовал на процесс классообразования; степень близости к власти становилась основным показателем социального статуса. Антагонистическая по своему характеру, деспотическая социально-политическая структура выполняла в то же время важные интегрирующие функции, связывая воедино хозяйственно-атомизированное общество, сдерживая его центробежные тенденции… В сфере частноправовых отношений подданный китайской империи имел определённые гарантии своей собственности, однако во взаимоотношениях с государством, в публично-правовой сфере, где, по выражению К. Маркса, царило «
поголовное рабство», частный собственник никаких гарантий своей собственности и личности не имел… Деспотизм, китайская империя всё больше расширяли свои экономические и социальные функции, всё в большей мере использовали свою политическую власть для сдерживания социально-экономических процессов, грозивших гибелью старому строю. Политическая монополия, политическая сила, оказавшаяся способной в течение долгого исторического времени подавлять оппозицию, в условиях новой исторической эпохи порождала экономическое бессилие, обрекавшее в конечном счёте некогда великий Китай на полное политическое подчинение капиталистическим державам.188
Марксистский анализ традиционного китайского общества был легко применим к советскому (или китайскому) социализму. Заинтересованный советский читатель, привыкший к эзопову языку, легко заменял в вышеприведённом тексте Китай на СССР и получал мощный вердикт советской системе: деспотизм, основанный на всеохватывающей госсобственности, эксплуатация порабощённых масс трудящихся чудовищным «классом-государством», подавление оппозиции, отсутствие гарантий для частной собственности, и в результате — экономический застой. Напрашивались и рецепты: ликвидировать бюрократическую деспотию, дать свободу частной собственности и частному предпринимательству, прорвать международную изоляцию. В данном анализе отсутствует лишь один важный элемент: осуждение правящей партии, эквивалент которой трудно было найти в традиционном Китае. Однако критика КПК входила составной частью в кампанию критики маоизма.
Подобная возможность теоретически осмыслить социализм на китайском материале играла важную роль в развитии нонконформистского мышления в Советском Союзе. Понимание СССР как нового издания «восточной деспотии», а партийно-государственной структуры как нового эксплуататорского класса весьма широко распространилось в кругах советских реформаторов. Идеи Г. В. Плеханова и данное Л. Д. Троцким и его последователями определение советской системы как диктатуры бюрократии189 получили широкую известность. Несмотря на официальный запрет, большой популярностью пользовалась книга югославского марксиста-диссидента М. Джиласа, утверждавшего, что в коммунистических странах правит новый бюрократический класс190. Оказываясь за рубежом, бывшие советские либеральные обществоведы быстро раскрывали своё представление о «восточной» природе советской системы, применяя концепцию «азиатского способа производства» к СССР. Например, М. С. Восленский, в целом повторяя аргументацию М. Джиласа, утверждал, что Советским Союзом управляет новый класс — «номенклатура
». Однако, по мнению М. С. Восленского, эта система не вполне нова, диктатура номенклатуры — «это феодальная реакция, строй государственно-монополистического феодализма. Сущность этой реакции в том, что древний метод „азиатского способа производства“, метод огосударствления применён здесь для цементирования феодальных структур, расшатанных антифеодальной революцией. Архаический класс политбюрократии возрождается как „новый класс“ — номенклатура; он устанавливает свою диктатуру, неосознанным прообразом которой служат теократические азиатские деспотии. Так в наше время протянулась стародавняя реакция, замаскированная псевдопрогрессивными „социалистическими“ лозунгами: сплав феодализма с древней государственной деспотией. Как бы этот сплав ни именовался: национал-социализмом, реальным социализмом, фашизмом,— речь идёт об одном и том же явлении тоталитаризме, этой чуме ⅩⅩ века
»191.
В самом СССР в период гласности многие теоретики «азиатского способа производства» в Китае и других азиатских странах также начали упоминать Советский Союз в своих работах. Так, специалист по древнекитайской государственности Л. С. Васильев утверждал, что «коммунистический тоталитаризм — лишь модификация классической восточной деспотии с её произволом власти, бесправием индивида, строго контролируемым рынком и несвободной частной собственностью. Модификация, к слову, экстремистская по основным своим параметрам, то есть ушедшая в сторону деспотизма много дальше, чем то было в случае с классическими восточными деспотиями
»192.
Вслед за Г. В. Плехановым Л. С. Васильев рассматривал дореволюционную Россию как часть незападного мира. По его мнению, система правления при коммунистическом режиме не претерпела никаких структурных трансформаций по сравнению с дореволюционным периодом. Напротив, «прежняя командно-административная система, основанная на государственном („азиатском“ по Марксу) способе производства с присущей ему всеохватывающей системой централизованной редистрибуции (перераспределения), осталась неизменной
». Более того, коммунистическая политика даже довела эту восточную систему в России до совершенства, превратив общество, «в котором уже были зачатки нового строя (европейско-буржуазного демократического с его ограждёнными гарантиями, правом личности на свободу, независимостью выбора, частной собственностью), в общество абсолютно бесправное, целиком поглощённое властью
»193.
Другая теория, которая использовалась советскими интеллектуалами для теоретизирования о собственной стране, развивала идею о необычайной живучести китайских традиций. Интеллектуально она выросла из старинных европейских представлений о застывшем характере китайского общества и европоцентристского мнения о том, что социальные изменения, не совпадающие с направлением развития Европы, не являются изменениями вовсе.
В советских нонконформистских трудах о Китае получила распространение идея о том, что историю Китая в ⅩⅩ в. полностью предопределили господствующие в нём традиции и что новая идеология и социальные институты Китая аналогичны традиционным и лишь кажутся иными. Официальная советская критика китайского марксизма (маоизма) признавала его ревизионистским извращением правильного марксизма, т. е. как бы неверной марксистской сектой. Сторонники же теории традиций вслед за рядом известных западных исследователей (К. Витфогель, Дж. К. Фэрбэнк, Л. Пай) говорили о «китаизации» марксизма, рассматривая маоизм как возрождение традиционной идеологии Китайской империи, слегка подкрашенной марксизмом. Аналогия с советской идеологией и советским государством здесь была весьма прозрачна и должна была подтвердить идеи Г. В. Плеханова, позднее развитые в немарксистской форме некоторыми мыслителями, прежде всего Н. А. Бердяевым. В книге «Истоки и смысл русского коммунизма», получившей широкое подпольное распространение в СССР, Н. А. Бердяев утверждал, что СССР — это возрожденная Российская империя или даже Московская Русь, а ленинский марксизм гораздо ближе к российским революционным традициям, чем к европейской социал-демократии194.
Во многих исследованиях этого направления отмечалось, что уникальная китайская традиция, доминировавшая на протяжении тысячелетий, препятствовала экономическому и социальному развитию, не допускала в Китай капитализм с его современными технологиями, новыми экономическими и общественными формами195, причём подразумевалось, что китайский марксизм есть продолжение этой традиции196. Эта теория, официально противопоставлявшая «китаизированный» марксизм истинному (советскому), не была запрещена. Однако для многих она имела другое, антимарксистское значение: если советский марксизм, как и китайский, есть лишь порождение ретроградной традиции в новых формах, рывок в общественном и экономическом развитии может быть достигнут только через отвержение марксизма и принятие западных ценностей в полном объёме. Теория доминирующей роли китайских традиций разрабатывалась многими сотрудниками отдела Китая Института востоковедения АН СССР. Отдел, долгое время возглавлявшийся другим бывшим консультантом Отдела ЦК, Л. П. Делюсиным, проводил ежегодные конференции «Общество и государство в Китае», на которых китаеведы-нонконформисты со всей страны широко обсуждали теорию традиций, и издавал сборники докладов этих конференций. Характерно, что сотрудники связанного с ЦК КПСС Института Дальнего Востока редко посещали эти конференции.
Анализировалось китайское общество и в контексте распространённых тогда концепций «третьего мира» и «социалистической ориентации». Странами «социалистической ориентации» в СССР считались государства Азии и Африки, в которых правил однопартийный режим, использовавший «социалистические» лозунги и ориентировавшийся во внешней политике на СССР, но недостаточно развитые, чтобы называться «социалистическими». В октябре 1966 г. в записке «К китайскому вопросу» с такими государствами (Гвинея, Мали, Гана, Индонезия, ОАР, Бирма, Конго со столицей в Браззавиле) сравнил Китай А. Е. Бовин. Он писал:
Антисоциалистические силы, представленные группой Мао Дзэдуна, не могут рассматриваться как выразители интересов китайской буржуазии, капитализма. Поэтому вряд ли правильно оценивать возможную перспективу перерождения общественного строя в Китае как возвращение к «классическому» буржуазному обществу. Скорее всего мы столкнемся с новым, своеобразным социальным образованием, которое будет характеризоваться государственной собственностью, авторитарно-диктаторским политическим режимом, закрепляющим власть узкого слоя партийной и государственной бюрократии, и абсолютной монополией псевдореволюционной, националистической идеологии, поддерживаемой всей силой государственного аппарата.197
Хотя, как явствует из слов самого А. Е. Бовина, в тот период он не стремился провести аналогию между подобной оценкой китайского режима и советской реальностью, её, безусловно, могли провести другие. Нонконформистские теории относительно характера китайского общества широко распространились среди советского образованного класса. В то же время официальная пропаганда также наложила серьёзный отпечаток на его мировоззрение. Со второй половины 60-х гг. военное столкновение с Китаем стало рассматриваться советским руководством как реальная возможность. На то, что заявления о милитаристской и экспансионистской угрозе Китая не были простым пропагандистским приёмом, указывают многочисленные свидетельства. Л. П. Делюсин вспоминал, что, когда он в феврале 1965 г. в составе делегации, возглавляемой Председателем Совета Министров СССР А. Н. Косыгиным, возвращался из КНДР, во время встреч на Дальнем Востоке об угрозе китайского нападения говорили советские военные руководители. Один из генералов во Владивостоке даже спрашивал, как реагировать, если массы китайцев цепью перейдут советскую границу (эта возможность, чаще как шутка, но иногда и всерьёз, обсуждалась в то время в обществе). Согласно Л. П. Делюсину, в 1974 г. он встречался с Ю. В. Андроповым, который в то время был председателем КГБ. Ю. В. Андропов был очень обеспокоен возможностью нападения со стороны Китая и на возражения Л. П. Делюсина спросил его, может ли он дать гарантии, что такого нападения не будет. Л. П. Делюсин заявил, что полной гарантии дать не может, но, основываясь на доступных ему данных о китайской военной политике и военной готовности, выразил уверенность, что нападения не будет.
О подобных настроениях Ю. В. Андропова свидетельствует и отрывок из его шуточной поэмы «Письмо волжского боцмана Николая Попикова председателю Мао Дзэдуну», отражающий реакцию на заявления Мао Цзэдуна и членов китайской делегации на пограничных переговорах с СССР о том, что Россия отторгла у Китая территорию к востоку от Байкала:
…Слыхал я, что советский наш Восток
Тебя и днём и ночью беспокоит.
Всё видятся тебе в твоих бредовых снах Хабаровск и Чита, равнины Казахстана,
Туда, туда тебя толкает прах Кровавого бродяги — Чингиз-хана.Что тут сказать? Уже не первый вор
Из Азии иль разных стран в Европе
На наши земли пялит алчный взор
И вон летит, схватив пинка по ж…е.198
Среди советской научной общественности взгляды разделились. По данным Л. П. Делюсина, во второй половине 60-х гг. ему пришлось отвечать на записку в ЦК КПСС директора Института Дальнего Востока АН СССР М. И. Сладковского, который утверждал, что Китай готовится к войне с СССР. Л. П. Делюсин был принят А. Н. Косыгиным и высказал противоположную точку зрения. Кроме этого он совместно с известными китаеведами Я. М. Бергером и В. Г. Гельбрасом написал записку в ЦК КПСС, которая была направлена за подписью директора Института востоковедения АН СССР Б. Г. Гафурова. В записке также говорилось, что китайское нападение маловероятно199.
В то же время взгляд на Китай как на военную угрозу СССР, мощный военный кулак, вот-вот готовый обрушиться на слабо заселённый советский Дальний Восток и Сибирь, получил распространение среди советской образованной элиты, далеко не всегда сочувствовавшей кремлёвским властям. Широту распространения этого взгляда трудно вычислить количественно: опросы общественного мнения в тот период не проводились. Однако кроме личных воспоминаний и впечатлений существуют другие косвенные свидетельства. К ним относятся произведения диссидентов, которые распространялись в СССР в списках или в запрещённых зарубежных изданиях, на страницах которых авторы высказывали свои взгляды искренне, без оглядки на цензуру. По словам историка-диссидента Р. А. Медведева, «опасность тотальной войны с Китаем очень беспокоила в конце 60-х — начале 70-х годов и советских диссидентов, занимая важное место в их размышлениях, письмах и статьях
»200.
Одно из таких произведений — знаменитое эссе историка-диссидента А. А. Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?», написанное 1969 г., т. е. в период наибольшей напряжённости в советско-китайских отношениях, и позже опубликованное за границей.201 Основной тезис А. А. Амальрика заключался в том, что СССР будет разрушен новым образованным классом, который, не сознавая того, создавало само советское руководство, стремившееся развивать науку и технику для достижения военных целей и укрепления армии. Однако другой важнейшей причиной краха СССР этот автор считал неизбежную войну с Китаем. А. А. Амальрик начинает свой анализ с сопоставления китайского опыта с опытом СССР. Он отмечает, что Китай «пережил революцию и гражданскую войну и, как и мы, воспользовался марксистской доктриной для консолидации страны
». В соответствии с теорией преобладания традиций он подчёркивает, что в Китае, «как и у нас, по мере развития революции марксистская доктрина становилась всё в большей степени камуфляжем, который более или менее прикрывал национал-имперские цели
»202. Из-за империалистического характера политики обеих стран, по мнению А. А. Амальрика, СССР и Китай никогда не станут истинными союзниками, а будут лишь прикидываться таковыми по тактическим соображениям: «Правда, на какой-то период КНР и СССР могли производить впечатление союзников, козыряя тем более одной и той же идеологией, однако полная противоположность их национально-имперских интересов и противоположность внутренних процессов в каждой стране… быстро положили конец мнимому единству
»203. А. А. Амальрик полагал, что «неумолимая логика революции ведёт Китай к войне, которая, как надеются китайские руководители, разрешит тяжёлые экономические и социальные проблемы Китая и обеспечит ему ведущее место в современном мире
». В такой войне «Китай будет видеть национальный реванш за вековые унижения и зависимость от иностранных держав
». Кроме того, китайское руководство стремится решить проблемы перенаселения, голода и сельского хозяйства, «которому необходимо развиваться не вглубь, а вширь и которое нуждается поэтому в новых территориях
»204. По мнению А. А. Амальрика, китайские лидеры видят эти территории в СССР: «Там лежат громадные малозаселённые пространства Сибири и Дальнего Востока, некогда уже входившие в сферу влияния Китая. Эти территории принадлежат государству, которое является основным соперником Китая в Азии, и во всех случаях Китай должен как-то покончить с ним или нейтрализовать его, для того чтобы самому играть доминирующую роль в Азии и во всём мире. Притом, в отличие от США, это гораздо более опасный соперник, который как тоталитарное и склонное к экспансии государство сможет в той или иной форме нанести удар первым
»205.
По мнению А. А. Амальрика, главное препятствие для достижения Китаем своих целей — существование двух сверхдержав, США и СССР, однако «реальные противоречия и возможности прямого столкновения у Китая гораздо больше с Советским Союзом
», чем с США206. А. А. Амальрик предсказывал неизбежное начало войны между СССР и Китаем между 1975 и 1980 гг. К этому времени, по его оценке, Китай накопит достаточный арсенал ядерных и обычных вооружений. Поскольку ядерный арсенал Китая всё равно будет невелик, Китай с большой вероятностью начнёт войну «обычными или даже партизанскими методами, стремясь использовать своё колоссальное численное превосходство и опыт партизанской войны
». Китай «постепенно на разных концах семитысячекилометровой границы с СССР будет проводить ограниченные стычки, просачивание небольших отрядов и иного рода локальные столкновения
». Советское руководство может ответить ядерным ударом или даже предпочтёт нанести превентивный ядерный удар. Однако даже если советское руководство решится на такую отчаянную меру, «это послужит сигналом не к предотвращению войны, а сигналом к её началу. Ведь будут уничтожены основные ракетные базы Китая, а не сам Китай, который немедленно начнёт в ответ изнурительную партизанскую войну, одинаково страшную для СССР, будет ли она происходить на советской или на китайской территории
»207. В результате советский контроль в Восточной Европе ослабнет, рухнет советская империя, а затем исчезнет и сам СССР.
Представления А. А. Амальрика о Китае вполне типичны для радикального антикоммуниста, получившего коммунистическое образование. С одной стороны, его ненависть к СССР и антисоветский радикализм настолько сильны, что он, почти как большевистские лидеры во время Первой мировой войны, не возражает против использования иностранной военной силы для уничтожения советского режима. Не приветствуя нападение Китая на Россию, он, однако, считает его неизбежным и полагает, что всему миру будет лучше, если США поддержат Китай в грядущей войне с Советским Союзом. Он поясняет: «Сейчас в России можно слышать такие примерно разговоры: США нам помогут, потому что мы белые, а китайцы жёлтые. Будет очень печально, если и США станут на такую расистскую точку зрения. Единственная реальная надежда на лучшее будущее для всего мира — это не расовая война, а межрасовое сотрудничество, лучшим примером чему могли бы стать отношения между США и Китаем
»208.
Объясняя, почему Соединённым Штатам не следует поддерживать СССР в войне с Китаем, А. А. Амальрик говорит, что Китай «с течением времени значительно повысит жизненный уровень своего народа и вступит в период либерализации, что в сочетании с традиционной верой в духовные ценности сделает Китай замечательным партнёром демократической Америки
»209. Интересно, что, будучи радикальным западником, А. А. Амальрик считает, что «восточный» Китай некоторым образом ближе к американским ценностям и обладает лучшими условиями для либерализации, чем Советский Союз. Это представление основывалось на его глубоком разочаровании в советском режиме, которое он распространяет на всю российскую историю и цивилизацию. Подобно радикальным русским западникам предыдущего столетия (таким как П. Я. Чаадаев), А. А. Амальрик полагал, что его страна не имеет никакой ценности по сравнению с Западом. Но советский диссидент идёт ещё дальше, ставя свою страну даже ниже «восточного» Китая. Согласно А. А. Амальрику, в то время как сохраняется некоторая надежда на либерализацию Китая в его нынешних границах, у СССР нет такой надежды и вообще нет ничего общего с демократическим Западом, с его «идеализмом и прагматизмом
». Для А. А. Амальрика СССР — страна «без веры, без традиций, без культуры и умения вести дело
». Он поясняет: «Массовой идеологией этой страны всегда был культ собственной силы и обширности, а основной темой её культурного меньшинства было описание своей слабости и отчуждённости… Её славянское государство поочерёдно создавалось скандинавами, византийцами, татарами, немцами и евреями — и поочерёдно уничтожало своих создателей. Всем своим союзникам оно изменяло, как только усматривало малейшую выгоду в этом, никогда не принимая всерьёз никаких соглашений и никогда не имея ни с кем ничего общего
»210.
С точки зрения А. А. Амальрика уничтожение этой противоестественной империи зла будет шагом вперёд на пути мирового развития, а грядущая война с Китаем предоставляет хорошую возможность для решения этой исторической задачи. Представления А. А. Амальрика о Китае выдают в нём жертву официальной советской пропаганды, его мнения об исконной воинственности Китая, китайских планах покорить и заселить советские территории, о поверхностном характере китайского марксизма, якобы скрывающего экспансионистские цели, о мощности китайской армии и эффективности партизанских методов ведения войны полностью взяты из официальной критики маоизма. Историк-диссидент лишь развивает некоторые аспекты официальной антикитайской пропаганды, в противоположность заявлениям официальных идеологов утверждая, например, что СССР не сможет противостоять китайской агрессии и рухнет. С другой стороны, его мнение, что атомные бомбы окажутся неэффективными против массированной партизанской войны, аналогично идеям Мао Цзэдуна, называвшего ядерное оружие «бумажным тигром».
А. А. Амальрик был не единственным диссидентом, предсказывавшим будущую советско-китайскую войну. Антикоммунисты незападнического направления также беспокоились о грядущей войне с Китаем, хотя их симпатии были обращены к России. А. И. Солженицын в «Письме к вождям Советского Союза», написанном в 1973 г., не разделяет антироссийских настроений А. А. Амальрика, но соглашается с его анализом возможности и последствий советско-китайской войны. По мнению А. И. Солженицына, советско-китайская война будет во многих отношениях аналогична вьетнамской войне, подобно ей, продлится как минимум 10—15 лет и «разыграется, кстати, почти по тем нотам, которые написал Амальрик, посланный за это на уничтожение, вместо того чтобы пригласить его в близкие эксперты
». А. И. Солженицын предсказывал, что «война с Китаем никак не обойдётся нам дешевле 60 миллионов голов,— и, как всегда в войнах, лучших голов, все лучшие, нравственно высшие обязательно погибают там
». В результате «русский народ практически перестанет существовать на планете
»211. По мнению писателя, такой результат неизбежен из-за природы врага, которая описывается им во многих отношениях аналогично существовавшим популярным и официальным стереотипам о Китае и китайском народе. А. И. Солженицын призывает советских лидеров не обольщаться отсталостью Китая и не «строить расчётов на победоносный блицкриг
»: «Против нас — почти миллиардная страна, какая не выступала ни в одной войне мировой истории. Её население, очевидно, ещё не успело с 1949 года утерять своего исконного высочайшего трудолюбия — выше нашего сегодняшнего,— своего упорства, покорности и находится в верном захвате тоталитарной системы, нисколько не упустительнее нашей. Её армия и её население не будут с западным благоразумием сдаваться массами ни окружёнными, ни покорёнными. Каждый солдат и каждый гражданский будут сражаться до последней пули и последнего вздоха
»212.
По мнению А. И. Солженицына, существуют две основные причины для войны с Китаем. Первая — «динамическое давление миллиардного Китая на до сих пор не освоенные наши сибирские земли
», вторая — идеологические разногласия. В отличие от А. А. Амальрика, А. И. Солженицын не считает, что гибель СССР в результате такой войны будет предпочтительным или неизбежным исходом. Но избежать его можно только в случае, если бы КПСС рассталась с идеологией, «отказалась от невыполнимых и ненужных нам задач мирового господства, а исполнила бы национальные задачи: спасла бы нас от войны с Китаем и от технологической гибели
»213. Поскольку, по мнению А. И. Солженицына, Китай представляет лишь военную угрозу, такая политика позволит передать крупные ресурсы из военной сферы на нужды внутреннего развития, особенно северовосточных регионов России. Он утверждает: «На ближайшие полвека у нас единственная истинная военная необходимость — обороняться от Китая, а лучше с ним вовсе не воевать… Больше никто на Земле нам не угрожает, никто на нас не нападёт
»214.
Письмо А. И. Солженицына вызвало дискуссию среди неофициальных авторов и общественных деятелей, которые в 1974 г. составили сборник под названием «Что ждёт Советский Союз?». Китайская угроза была темой большинства статей сборника215. Не все авторы соглашались с А. И. Солженицыным в вопросе об идеологическом характере конфликта, напротив, многие придерживались мнения А. А. Амальрика о том, что марксистская идеология лишь прикрывает традиционные национальные интересы. Некоторые не считали эту угрозу серьёзной. А. Д. Сахаров, по собственному признанию, отдал дань опасениям в отношении войны с Китаем, хотя в дальнейшем изменил свою позицию. Признавая, что отношения с Китаем были не безоблачными, он в то же время замечал: «Большинство экспертов по Китаю, как мне кажется, разделяют ту оценку, что ещё сравнительно долгое время Китай не будет иметь военных возможностей для большой агрессивной войны против СССР, и трудно представить себе, чтобы нашлись авантюристы, которые толкнули бы его сейчас на такой самоубийственный шаг (но и агрессия СССР тоже была бы обречена на провал). Можно даже высказать предположение, что раздувание китайской угрозы — это один из элементов политической игры советского руководства. Переоценка китайской угрозы — плохая услуга делу демократизации и демилитаризации нашей страны, в которых она так нуждается, нуждается весь мир
»216. Как и А. А. Амальрик, А. Д. Сахаров считал, что причина советского противостояния с Китаем — не в идеологии, а в борьбе за мировую гегемонию. Однако он отмечал, что китайские лидеры не менее прагматичны, чем их советские коллеги, и вряд ли начнут войну. На этом основании он критиковал А. И. Солженицына за переоценку роли идеологии217.
Р. А. Медведев оценивал письмо А. И. Солженицына аналогичным образом. Он писал, что угроза войны с Китаем существует, но переоценивать её не следует по следующим причинам: во-первых, советское военное превосходство по-прежнему столь велико, что китайские лидеры едва ли станут начинать войну, в которой Китай обречён на уничтожение; во-вторых, Китай по-прежнему имеет множество неосвоенных территорий и вряд ли станет вести войну ради Сибири, тем более из-за идеологических разногласий; в-третьих, ни советская, ни китайская армия не смогут долго воевать на чужой территории. Р. А. Медведев, однако, не отвергал саму возможность войны. Он лишь замечал, что если она начнётся, то вряд ли пойдёт так, как предсказывали А. А. Амальрик и А. И. Солженицын. Соглашаясь с тем, что Москва должна более энергично развивать приграничные с Китаем районы таким образом, чтобы это пошло на пользу советской экономике, он возражал против затрат колоссальных ресурсов на «размораживание» северо-востока в ответ на китайскую угрозу.218
Аргументы сторонника национальной идеи писателя-диссидента Л. И. Бородина звучат гораздо более тревожно. Л. И. Бородин не согласен, что китайская угроза возникла с появлением марксистской идеологии в Китае. По его мнению, она имеет гораздо более давние, исторические корни, а марксизм только облёк традиционную китайскую стратегию в новую терминологию. В том же сборнике Л. И. Бородин писал:
Кто в России (разве кроме академика Сахарова) не знает в душе своей тревожного чувства, которое возникает при слове «Китай». Несколько лет назад китайскую опасность открыл (для себя) Амальрик. Он просто не знал о Владимире Соловьёве, о Максимилиане Волошине и о других, кто это чувство тревоги на предмет Китая высказал задолго до утверждения в России «передовой идеологии». Сегодня мы эту опасность знаем на ощупь. Сделать всё возможное, чтобы катастрофа не разразилась, независимо от фатальности этой катастрофы,— долг каждого, кому дорога Россия, опять же независимо от того, какою каждый хочет видеть Россию. Именно в этом смысле реальны предложения Солженицына относительно разумного освоения Сибири. Что же касается «передовой идеологии», которую, согласно Солженицыну, следовало бы отдать в монополию Китаю… едва ли это панацея от конфликта. Будем ли мы последовательными марксистами-ленинцами, ревизионистами или тем более вовсе откажемся от этой идеологии — независимо от всего этого Китай всегда будет иметь перед собой лозунг торжества идей Мао. Торжества всемирного, потому что марксизм может существовать постольку, поскольку он хотя бы в вечной перспективе, но непременно ориентирован на мировое господство. В данном случае марксизм выступает в качестве оружия национальной идеи и в качестве средства. Национальная же идея Китая — выход за границы. И выход этот осуществится с такой же неизбежностью, с какою Германия в своё время шла на самоубийственную мировую авантюру. Нападению может противостоять только защита. И только по этой причине реальны, т. е. необходимы, предложения Солженицына относительно возрождения подлинного национального сознания в России.219
В начале 1970-х гг. диссиденты различных направлений использовали угрозу войны с Китаем в качестве аргумента, доказывавшего неизбежность гибели СССР, необходимость сотрудничества с Западом, запрета коммунизма, развития национальных ресурсов и возрождения национального духа. Во всех этих случаях сама угроза воспринималась более чем серьёзно. Диссидентские сочинения были направлены против коммунистических властей, однако на понимание ими ситуации в Китае значительное влияние оказали стереотипы официальной советской и китайской пропаганды.
Независимо от того, как воспринималась угроза войны с Китаем — злободневной и очень серьёзной либо сравнительно отдалённой и маловероятной, китайский режим описывался диссидентами как диктатура, аналогичная советской или даже ещё более жёсткая. В диссидентской литературе широко распространилось сравнение «культурной революции» со сталинизмом и германским нацизмом, являвшимся в советской политической культуре символом наиболее страшного и разрушительного милитаризма. А. Д. Сахаров, например, писал в 1968 г., что «идиотизм культа личности принял в Китае чудовищные, гротескно-трагикомические формы, с доведением до абсурда многих черт сталинизма и гитлеризма
»220, а автор-диссидент Э. В. Самойлов посвятил обширный труд разбору нацизма, маоизма и советского марксизма, относя все три идеологии к «фашизму
»221.
Темы войны с Китаем, описания фанатизма хунвэйбинов и пограничных стычек широко распространились и в советском искусстве. Китайская угроза то изображалась в комическом ключе — как тысячи китайских хунвэйбинов готовы вторгнуться в Россию, то становилась предметом серьёзных дискуссий. В стихотворении «На красном снегу уссурийском», написанном в связи с событиями на острове Даманский, Е. А. Евтушенко изображал страшную картину происходящего в России, изнывающей под китайской пятой, которая грезится безжалостным хунвэйбинам:
И родина наша им снится,
где Пушкин с Шевченко — изъяты,
где в поле растет не пшеница,
а только цитаты, цитаты,
где челюсти зверски хрустят,
как морскою капустой,— искусством…
где луковки суздалей —
в суп осьминожий для вкуса…
В стихотворении Е. А. Евтушенко хунвэйбины-оккупанты доходят до такого зверства, что вырубают всю тайгу на рамы для портретов «отца человечества — Мао
», кидают в седого профессора камнями и гнилыми креветками, заставляют М. М. Плисецкую месить цемент балетными тапочками, жгут на костре гармошку Василия Тёркина, рвут струны гитары Б. Ш. Окуджавы, заставляют А. А. Вознесенского писать поэму «Маоза» вместо «Оза» и даже отправляют Л. Г. Зыкину в лагерь прямо со сцены.
Е. А. Евтушенко, как и Л. И. Бородин, прямо рассматривает планы китайских «обнаглевших лжекоммунистов» как второе татарское нашествие:
Владимир и Киев,
вы видите — в сумерках чадных
У новых батыев
качаются бомбы в колчанах.
Но если накатят —
ударит набат колоколен,
и витязей хватит
для новых полей Куликовых!222
Этой теме отдали дань или упоминали её в своих сочинениях многие авторы, в том числе далёкие от официальной идеологии. Среди них такие барды, как В. С. Высоцкий («Возле города Пекина ходят-бродят хунвэйбины»223, сатира на «культурную революцию», 1966) и А. М. Городницкий, в «Марше хунвэйбинов» (1969) так представлявший их кредо:
Перед сотней всегда миллионы правы.
Надоела соха — карабины хватай!
Если мы не дойдём до далёкой Москвы,
Значит, мы недостаточно любим Китай224.
В фильме кинорежиссера А. А. Тарковского «Зеркало» герой во время смертельной (как он считает) болезни среди прочего вспоминает хроникальные кадры о конфликте на советско-китайской границе как одно из главных впечатлений своей жизни. О китайской угрозе говорилось даже в анекдотах. В одном из них, очень популярном в 1970-х гг., рассказывается, как в начале ⅩⅩⅠ в. диктор объявляет по радио: «На финско-китайской границе всё спокойно
». В другом анекдоте говорится: оптимисты учат английский язык, а пессимисты — китайский.
В неофициальной литературе страх перед Китаем часто соседствовал с сатирическим изображением китайского коммунистического режима. По общему мнению, он был похож на советский режим, только оказывался намного хуже. Пародия поэта-юмориста А. Раскина на известную песню А. М. Городницкого звучит так:
Над Китаем небо синее,
Меж трибун вожди косые.
Хоть похоже на Россию,
Слава богу, не Россия!
Интересное использование темы китайской угрозы можно найти в сатирической поэме «Абрам Пружинер» Н. М. Коржавина, направленной против «новых московских славянофилов
». Поэму невозможно было напечатать в СССР, но, подобно многим другим стихотворениям Н. М. Коржавина, она распространялась в рукописном виде, что вызывало недовольство властей и в конце концов и вынудило поэта эмигрировать в 1972 г.:
…А ведь жизнь теперь — густая.
И возможно, в некий час
Вдруг недвижного Китая
Стены — двинутся на нас,
Наплевав на всё, что было
В нас хорошим и дурным,
Всем грозя — славянофилам,
И жидам, и остальным.
Без привычки, но придётся
Нам впервые за века
Многократность превосходства
В людях — встретить у врага.
Как мы выстоять сумеем
С этой подлостью своей?
Лишь разумней и дружнее
Став — мы будем их сильней.225
Несмотря на значительное различие в тоне, коржавинские «стены Китая
» явно напоминают аналогичный образ из «Панмонголизма» В. С. Соловьева. Смысл стихотворения Н. М. Коржавина также аналогичен идеям русского философа: чтобы быть готовой к отражению китайского вторжения, России следует морально очиститься и сплотиться. Китай снова выступает как зеркало, отражающее недостатки самой России.
Традиция использования Китая как символа в споре между западниками и славянофилами возрождается и в поэме Д. С. Самойлова «Струфиан». В «Струфиане», посвящённом событиям ⅩⅨ в., выведен сатирический персонаж — провинциальный мыслитель Федор Кузьмич, который отправляет царю Александру Ⅰ письмо с предложением последовать примеру Моисея и вывести российское население из европейской части страны в Сибирь, чтобы оградить его от растленного влияния Запада. В этом письме, которое многими воспринималась как пародия на солженицынское «Письмо вождям Советского Союза», Кузьмич, в частности, предлагает:
И, завершив исход Синайский,
Во все концы пресечь пути.
А супротив стены китайской —
Превыше оной возвести.226
Образ Китая в диссидентских и неофициальных сочинениях отражает настроения, существовавшие в 60-70-е гг. среди советской интеллектуальной элиты. Эти настроения, естественно, не могли не влиять на партийных чиновников. Например, Г. А. Арбатов признаётся, что, хотя позже, на основе новой информации, он понял, что ни Китай, ни СССР не планировали в 1960-е гг. нападения друг на друга, «…нам пришлось тогда столкнуться с сочетанием реальных политических угроз, непонимания того, что происходит в КНР, и порождённых всем этим страхов и эмоций. Всё это вместе взятое вывело проблему отношений с Китаем на первый план, притом не только в расчётах политиков, но и в сознании общественности
»227.
Все вышеприведенные примеры дают право считать, что советско-китайский конфликт оставил глубокий отпечаток в мировоззрении не только правящей советской элиты, но и интеллигенции. Более того, возможно, впервые в истории российско-китайских отношений осознание опасности соседства с обширной, многонаселённой и враждебной страной на востоке дошло до самых глубин массового сознания не только в приграничных районах, но и по всей стране. Элитные отвлечённо-теоретические страхи предреволюционного периода в новой форме проникли в самые различные слои населения.
Две тенденции в оценке китайских реформ
Политическая стабилизация и начало экономических преобразований в Китае в конце 1970-х гг. углубили раскол в стане советских экспертов по Китаю. Раньше различие между официальной и нонконформистской группировками заключалось в разных акцентах в критике маоизма. Теперь же официальная группировка стремилась доказать, что новые лидеры Китая продолжают дело Мао Цзэдуна, в то время как нонконформисты одобряли реформы, подспудно, а иногда и прямо предлагая учиться на китайском примере. Бесспорным лидером официальной группировки был О. Б. Рахманин, первый заместитель заведующего Отделом ЦК КПСС228.
Авторы, писавшие в русле указаний этой группировки, тесно связанной с военно-промышленным комплексом, заинтересованным в сохранении китайской угрозы для обоснования роста расходов на оборону, в своих публикациях доказывали, что экономические и политические реформы Дэн Сяопина не изменили «антимарксистского» характера режима. В книгах и статьях первой половины 80-х гг. сам О. Б. Рахманин и его сторонники: сотрудники Отдела ЦК М. Л. Титаренко, Б. Т. Кулик, заведующий отделом, а с 1982 г. заместитель министра иностранных дел М. С. Капица и многочисленные сотрудники Института Дальнего Востока, который до своей смерти в 1983 г. возглавлял сторонник О. Б. Рахманина М. И. Сладковский, а также влиятельный дипломат и академик С. Л. Тихвинский (одно время возглавлявший официальное Общество советско-китайской дружбы) — старались показать, что новый курс китайского руководства уже не является «левым уклоном» (как обычно характеризовалась политика Мао Цзэдуна), и определяли его как «правомаоистский». На советском новоязе это означало, что китайские лидеры согрешили дважды: во-первых, отклонившись вправо от верного социалистического курса, во-вторых, были маоистами, т. е. немарксистами. По мнению этой группы, в 80-е гг. «правые националистические силы в руководстве Китая намерены твердолобо следовать по старой заезженной колее маоизма
»229, «маоисты превратились в главных поджигателей мировой войны
»230 . Согласно А. Е. Бовину, после смерти Мао Цзэдуна, «Рахманин и его группа в Отделе ЦК… плотно перекрыли все пути к объективному освещению обстановки в Китае. Они сумели внушить начальству глупейшую мысль: при Мао Цзэдуне был левый маоизм, а после Мао Цзэдуна маоизм стал правым. Так что никаких значимых перемен в Китае не происходит
»231. Рахманинцы контролировали даже китайскую политику дружественных «социалистических» стран. Для этого О. Б. Рахманин возглавил т. н. «Интеркит» (совещание представителей коммунистических партий по китайской проблематике), на котором, согласно Р. А. Медведеву, «изыскивались всё более изощрённые аргументы против Китая. В рамках его родилось обвинение Китая в мелкобуржуазном перерождении, и в бонапартизме, и во многом другом
»232.
То, что ранее маоизм определялся как «левый уклон», не считалось противоречием, так как и то, и другое было «извращением марксизма». Для сторонников О. Б. Рахманина определяющим моментом было не направление уклона, а само его наличие. В последние годы правления Л. И. Брежнева правый уклон в какой-то мере считался даже более опасным, т. к., как писал занимавший в то время высокие посты в Главном политическом управлении Советской Армии Д. А. Волкогонов (впоследствии видный сторонник Б. Н. Ельцина), «с усилением влияния империалистических монополий в сфере экономики, с нарастанием рыночных тенденций может возникнуть опасность реставрации капитализма в Китае
»233. Единство мнения военного идеолога и рахманинской группировки было неслучайным: последняя фактически выражала интересы военно-промышленного комплекса. По внутриполитическим причинам Л. И. Брежнев очень осторожно подходил к отношениям с военными кругами. С. Н. Гончаров отмечает: «Советское военное руководство было чрезвычайно недовольно сокращениями обычных вооружений, которые осуществил Н. С. Хрущёв. Недружественные действия китайской стороны были отличным предлогом для того, чтобы „компенсировать“ прежние сокращения за счёт наращивания войск на китайском направлении, и Л. И. Брежнев с готовностью согласился на такой шаг
»234. Группа О. Б. Рахманина старалась доказать, что «маоизм сам своими действиями отлучил себя от научного социализма, от китайской революции и социалистической перспективы развития Китая
», «превратился в политического пособника империализма в борьбе против социалистической системы
» и что маоистская идеология переродилась в «разновидность антикоммунизма
»235.
Это означало, что КНР фактически перестала быть «социалистической» страной и поэтому отношения с ней невозможно строить как с социалистическим другом. Подобные аргументы были направлены против нормализации советско-китайских отношений и попыток проведения рыночных реформ в СССР, что могло бы привести к демилитаризации границы и снижению военных расходов236. В то же время практические соображения не были единственной основой взглядов рахманинцев: многие из них были убеждёнными марксистами сталинского толка и искренне верили, что переход к рыночной экономике и прозападной политике — вредный и опасный путь для социалистической страны.
Ещё в 1984 г. О. Б. Рахманин утверждал, что для политики КНР характерно «сохранение исходных принципов маоизма с его гегемонистской направленностью, форсированная милитаризация страны с её негативным влиянием на все стороны жизни общества, ставка на антисоветизм
». Он также открыто критиковал китайские экономические реформы: «Нет оснований считать позитивными и курс на восстановление многоукладности форсированное развитие единоличного хозяйства в городе и деревне, попытки создать некий симбиоз плановости с рыночным регулированием, политику „открытых дверей“ для иностранного капитала
»237. По свидетельству Е. П. Бажанова, ещё летом 1985 г., когда большинство представителей «братских партий» уже устали от советских бумаг, доказывавших злокозненность Китая, сотрудники Отдела получили задание собрать к очередному заседанию «Интеркита» «всю грязь о КНР, которую можно найти
»238.
О методах контроля группы О. Б. Рахманина работавший в конце 70-х — начале 80-х гг. в советском посольстве в Пекине Е. П. Бажанов свидетельствует:
Советский посол в Пекине получал на Старой площади жёсткие инструкции: информировать Москву о всех «выходках» китайцев, разоблачать их мнимое миролюбие, бичевать за пособничество империализму, вскрывать ревизионистский характер реформ в КНР. Если депеши из посольства отвечали этим требованиям, аппаратчики немедленно рассылали их по «большой разметке», то есть всем членам высшего партийного и государственного руководства СССР. В противном случае посольским телеграммам хода не давалось. А в Пекин (в личных письмах, через курьеров и другими путями) неслись грозные окрики: «прекратить проституирование, глядеть в корень, отличать слова от дел, зёрна от плевел!»239
Е. П. Бажанов вспоминает, что он получил задание заранее «обделать китайцев за приём главы американского империализма
» Р. Рейгана, который в апреле 1984 г. должен был посетить Китай с визитом. Написав объективную информацию, Е. П. Бажанов «получил нагоняй»: «Посол лично переписывал телеграмму, вставлял в неё фразы о „постыдном пресмыкательстве китайских лидеров перед вояжёром“, „о новом витке сговора между Пекином и Вашингтоном“. Я пытался возражать, убеждал Чрезвычайного и Полномочного, что китайцы вели себя достойно, не допускали антисоветских выпадов. Шеф разводил руками, поясняя, что он и сам это знает, но Инстанция требует именно такой информации
»240.
Позднее, работая под руководством О. Б. Рахманина в Отделе ЦК, Е. П. Бажанов сделал следующее наблюдение:
Своим долгом цековцы считали вмешательство в производственную деятельность подчинённых коллективов. На китаеведческом направлении штаб держал под контролем всё: содержание книг, выпускаемых издательствами, тональность газетных статей, характер выступлений на синологических конференциях. Как-то шеф наткнулся на статью в китайской печати, в которой приводились добрые слова советского специалиста о КНР. Шёл 1985 год, советско-китайские отношения ещё не были полностью нормализованы, и шеф счёл поступок специалиста предательским. На газете он наискось начертил жирным красным чернилом: «
Найти и призвать к ответу!» В другой раз из штаба позвонили на телевидение и потребовали не хвалить китайских гимнастов во время трансляций с первенства мира. По указанию ЦК сняли загоравшиеся неоном иероглифы с фронтона ресторана «Пекин». Старая площадь блокировала народную дипломатию между гражданами СССР и КНР.241
Другим заданием Е. П. Бажанова, полученным в том же году, было ведение параллельного досье на занимавшего в то время пост директора Института США АН СССР академика Г. А. Арбатова (выступавшего за реформы в СССР, в том числе и используя опыт Китая) и госсекретаря США Г. Киссинджера (оба были евреями). Необходимо было продемонстрировать идейную, а возможно, и организационную смычку между «двумя деятелями международного сионизма». Для многих высших руководителей СССР это была двойная крамола: согласие с представителем «империализма» и «сионизма». По словам Е. П. Бажанова, ему приходилось составлять сравнительную таблицу высказываний двух учёных, например, в левом столбце — слова Г. Киссинджера о том, что «Китай движется в разумном направлении
», в правом — мысль Г. А. Арбатова о целесообразности «повнимательнее присмотреться к китайским экспериментам
». Годились даже такие совпадения в позициях двух деятелей, как их призывы к миру, разрядке международной напряженности, поиску решений международных проблем путём переговоров. В другой раз руководство Отдела решило использовать изыскания сына отстранённого от власти и осевшего в Москве лидера китайских коммунистов Ван Мина, который принёс туда целое исследование с «сенсационным открытием»: все лидеры современного КНР, включая Дэн Сяопина, якобы евреи и происходят из еврейских кланов, поселившихся в Центральном Китае. Эта абсурдная информация была разослана членам Политбюро, которые, по мысли рахманинцев, вероятно, должны были отказаться от ведения каких-либо дел со страной, управляемой «сионистами». В другой раз тот же автор в поданной в Отдел записке заключал, что все кадровые изменения в Китае непосредственно санкционируются Вашингтоном242.
В отличие от ортодоксов-рахманинцев, сторонники нонконформистских взглядов считали, что сближение с Китаем даст возможность заимствования опыта китайских рыночных реформ. Соответственно они стремились доказать, что социализм в Китае Дэн Сяопина не только стал развиваться в правильном направлении, но и выработал некоторые подходы, представляющие интерес для всего мирового социализма. Сторонники этого подхода редко могли высказать свои взгляды в китаеведческих публикациях, проходивших строгую цензуру Отдела ЦК. Однако они порой публиковали свои работы в газетах или научных журналах общего содержания, за которыми рахманинцы не всегда успевали следить, или в том случае, когда публикацию поддерживали лица, не менее влиятельные, чем О. Б. Рахманин.
Первое время контроль рахманинцев был крайне жёсток. Так, в феврале 1977 г. А. Е. Бовин, в то время политический обозреватель «Известий» и член Центральной ревизионной комиссии КПСС, смог опубликовать статью о переменах в Китае только в менее официальной «Литературной газете» и после того, как из неё различными инстанциями была выхолощена значительная часть содержания243. Однако А. Е. Бовин не оставил своих попыток переубедить руководство.
Более поздний пример либерального подхода к описанию китайского коммунистического режима — получивший широкую известность очерк Ф. М. Бурлацкого «Междуцарствие, или хроника времен Дэн Сяопина», опубликованный в 1982 г. в журнале «Новый мир». К тому времени Ф. М. Бурлацкий покинул ЦК из-за конфликта по поводу одной из своих статей, после чего опубликовал несколько книг по истории политики и политической мысли. Формально очерк о временах Дэн Сяопина был посвящён постмаоистскому Китаю и весьма критически оценивал политику китайского руководства. Таким образом, она не подрывала официальную линию группы О. Б. Рахманина. В то же время советский читатель легко мог понять, что автор, по сути, обращал свою критику на собственное отечество и его коммунистическое руководство. Ф. М. Бурлацкий описывает коммунистический Китай как страну, где «суд и расправа являются прямой функцией власти
», «целиком находятся в зависимости от политического руководства и служат орудием ликвидации оппозиции
», где, в силу самих механизмов власти, на вершине «оказываются довольно посредственные люди
». Он отмечает, что попытка провести политический процесс против организаторов «культурной революции», полностью игнорирующая её «главного героя
», выглядит «бессмысленной и жалкой
». Используя в качестве источников некоторые китайские документы, он описывает китайский социализм как «полуфеодальный
», где процветают злоупотребление властью, взяточничество, коррупция и непотизм244. Эта картина, естественно, вызывала у читателя ассоциации и сравнения с Советским Союзом и «социализмом» в целом. Осуждение Ф. М. Бурлацким политики и личности Мао Цзэдуна можно понять как косвенную критику стареющего советского руководства. Ф. М. Бурлацкий писал, что Мао Цзэдун уничтожил «старую гвардию» китайских коммунистов (начиная с ⅩⅩ съезда КПСС — обычное обвинение, предъявляемое И. В. Сталину и его политике партийных чисток), и утверждал, что под конец жизни китайский лидер гнал от себя саму мысль о смерти, «как это обычно делают очень старые люди
»245. Дэн Сяопина автор описывает как «противоречивую фигуру
», заражённую «бациллой шовинизма
», способную «подвигнуть его на любые действия на мировой арене, которые он предполагает выгодными для Китая, игнорируя не только принципы социализма… но и долговременные общенациональные интересы китайского народа
»246.
Некоторые фрагменты очерка в качестве отдельных высказываний, не будь он посвящён ненавидимому советским руководством маоизму, безусловно, были бы запрещены цензурой, поскольку воспринимались бы как прямое описание советского общества. Например, Ф. М. Бурлацкий пишет:
Самая страшная болезнь, которая распространилась во всей политической системе страны и проникла во все поры китайского общества, это ложь и фальшь как норма политической жизни, норма отношений между партией, государством и человеком. Речь идёт не просто о разрыве между политическими декларациями и практикой, а о неистребимой фальши самих деклараций, целиком или, во всяком случае, частично замешанных на очевидной лжи, которая стала неизбежным ритуалом политического поведения и руководителей и руководимых, проникла в основы официальной и социальной психологии масс.247
В оценке китайских экономических реформ, которые к 1982 г. проводились уже по меньшей мере три года, Ф. М. Бурлацкий явно несправедлив, поскольку он в основном обсуждает проблемы экономики, такие как инфляция и безработица, совершенно не упоминая об успехах отдельных мероприятий. Очерк Ф. М. Бурлацкого, в котором резко критикуется новое китайское руководство и не делается различия между ним и группой Мао Цзэдуна, может показаться аналогичным сочинениям группы О. Б. Рахманина. При прямом прочтении он даже мог дать неверное представление о реальной ситуации в Китае после начала рыночных реформ. Однако немногие прочитывали его таким образом. Опытный российский читатель, привыкший видеть между строк, понимал, что этот очерк, написанный не специалистом по Китаю, а либеральным общественным деятелем, опубликованный не в научном, а в литературном журнале, на самом деле говорит не о Китае, или, по крайней мере, не только о Китае. Его темой был Советский Союз и «реальный социализм» в целом. Показательно, что Ф. М. Бурлацкий призывал китайское руководство изучать не только экономический опыт современного СССР (необходимая уступка цензорам), но и НЭП 1920-х гг. и современные реформы в Венгрии, ставшие символами экономических преобразований для советских нонконформистов и подвергавшиеся резким нападкам группы О. Б. Рахманина248.
Другим важным методом деятельности нонконформистов были направлявшиеся в ЦК и правительство закрытые записки, которые в сжатой форме сообщали итоги политически важных результатов исследовательских разработок или зарубежных поездок. Эти справки составлялись научными работниками и преподавателями вузов, участвовавшими в исследованиях, но подписывались главой учреждения. Их посылали в соответствующие отделы ЦК КПСС, МИД, КГБ и другие заинтересованные государственные ведомства. Многие из справок по теме отношений с Китаем застревали в Отделе ЦК у О. Б. Рахманина, однако некоторые попадали в другие отделы ЦК и даже выше.
Постоянным критиком политики, проводимой группой О. Б. Рахманина, был А. Е. Бовин. Уже в 1977 г., когда ещё несколько его попыток «разобраться в том, что происходит в Китае
», и «сообщить об этом читателям „Известий“
» закончились безрезультатно, т. к., по его словам, О. Б. Рахманин, «торомозил
» его «изо всех сил
», он направил записку помощнику Л. И. Брежнева по международным делам А. М. Александрову-Агентову В ней А. Е. Бовин критиковал материалы советского посольства в Китае, которое, по его мнению, «неверно ориентирует руководство
», недооценивая происходящие в Китае перемены и пытаясь создать впечатление, что «там всё или почти всё остаётся по-старому
». Причину этого А. Е. Бовин видел в том, что «посол подстраивается к настроениям, которые пока берут верх в ЦК и КГБ
». По мнению же самого автора записки, «в Китае уже начался и набирает темпы демонтаж маоистской политики
», наступил новый период, когда «без Мао Цзэдуна ещё нельзя, а вот без маоизма (в его „скачковом“, „культурно-революционном“ смысле уже можно
». А. Е. Бовин заключал, что «Китай вступил в новую полосу своего развития
», и высказывал мнение, что «нам важно это понять и вырваться из плена прошлых „анализов“
»249.
В сентябре 1979 г. А. Е. Бовин направил записку Ю. В. Андропову, в которой обрушился с критикой на позицию группы О. Б. Рахманина. По свидетельству А. Е. Бовина, «когда Андропов оказался в КГБ, мы часто обсуждали китайскую тему. Комитетские китаисты были в одной связке с Рахманиным. Меня упрекали в излишней „мягкости“. А позже — в том, что я преувеличиваю позитивные сдвиги в Китае
»250. В записке А. Е. Бовин утверждал, что «суть происходящих в Китае перемен — это отказ от идей и концепций ортодоксального маоизма, того маоизма, который сформировался в годы „большого скачка“ и „культурной революции“. На всех направлениях — в экономике и политике, в культуре и идеологии — китайцы возвращаются к здравому смыслу
». Он не исключал возможности отхода Пекина от антисоветской политики и указывал на необходимость «умно подталкивать китайцев в этом направлении
». Явно имея в виду рахманинцев, он отмечал, что «пока… вся наша пропагандистская машина работает на то, чтобы удержать китайское руководство на позициях антисоветизма
», т. к. «всё, что происходит в Китае, продолжает вызывать у нас неприязнь и раздражение
». «Как это ни странно,
— заключал А. Е. Бовин,— но получается, что мы — вопреки своим собственным интересам — выступаем в защиту прежнего, маоистского Китая, прежних, маоистских порядков
». Он призывал более объективно и спокойно писать о внутренних процессах в Китае, так как «если в Китае есть люди, ощущающие необходимость позитивных перемен в китайско-советских отношениях, то они получат дополнительные аргументы в пользу перемен
»251.
По сути, это была широкая антирахманинская программа, направленная на коренной пересмотр подхода к Китаю. В тот период она не сработала, со статьями А. Е. Бовина о Китае «продолжалась волынка
». Однако с ходом времени ситуация менялась. В 1983 г. сам Ю. В. Андропов санкционировал поездку А. Е. Бовина в Китай в качестве «гостя посла» СССР. Она стала одним из первых посещений Китая советским «общественным деятелем», близким к руководству страны. В то же время рахманинцам удалось блокировать поездку в Китай Л. П. Делюсина, который должен был ехать вместе с А. Е. Бовиным. Препятствование поездкам в Китай «неблагонадёжных» лиц также было одним из методов группы О. Б. Рахманина. Из поездки А. Е. Бовин вынес следующее впечатление: «Десять дней в Китае подтвердили мою гипотезу, что мы имеем дело с новым Китаем. Никто мне этого не говорил, да и не мог — особенно „наверху“ — сказать. Это было видно по характеру встреч, по улыбкам и горящим глазам, по вопросам
»252.
Одним из важных нонконформистских документов, попавших к высшему руководству в обход рахманинцев, стал отчёт о поездке в КНР в 1985 г. директора Института США и Канады АН СССР Г. А. Арбатова. Г. А. Арбатов поддерживал идею реформ, сходных с китайскими, а также идею нормализации советско-китайских отношений. Будучи академиком, членом ЦК, неофициальным членом группы спичрайтеров Л. И. Брежнева и доверенным лицом Ю. В. Андропова, он обладал достаточным влиянием, чтобы действовать в обход рахманинцев. Его отчёт о поездке в Китай попал к М. С. Горбачёву и сыграл значительную роль в повороте к более активной нормализации советско-китайских отношений253.
Отчёт Г. А. Арбатова был важным, но не единственным документом подобного рода. Весной 1985 г., сразу после прихода к власти М. С. Горбачёва, записку новому генеральному секретарю направил А. Е. Бовин. В ней он призывал больше и более объективно писать о Китае, а реформы там оценивал как «нечто вроде синтеза нашего НЭПа, нашей (неосуществленной) реформы 1965 года, а также отдельных элементов югославского и немецкого опыта
», т. е. как не выходящие за рамки социализма. По данным А. Е. Бовина, записка была одобрена254. Записки и справки с позитивным описанием китайских реформ и намёками на их возможное применение в СССР направляли руководству и другие учреждения, прямо не контролировавшиеся рахманинцами: Институтом экономики мировой социалистической системы, возглавлявшимся реформистски настроенным академиком О. Т. Богомоловым, Институтом мирового рабочего движения (где китайским направлением руководил в то время сторонник китайских реформ В. Г. Гельбрас) и др.
После начала реформ в Китае советские либералы и консерваторы снова изменили своё отношение к Китаю. С точки зрения либералов дружить с меняющимся Китаем было полезно. По словам Г. А. Арбатова, «успешные реформы в Китае в самом конце 70-х и в 80-х годах вновь сделали эту страну, то, что в ней происходит, определённым фактором в наших внутренних делах, тем более что и нас всё больше интересовала проблема реформ. И первыми, кто заговорил в СССР о необходимости радикального улучшения советско-китайских отношений, были те самые люди, которые занимали наиболее последовательную и твёрдую антимаоистскую позицию в ходе дискуссии начала 60-х годов
»255. В то же время консерваторы опасались, что реформаторство может оказаться смертельно заразным, и заняли открытую антикитайскую позицию.
Усилиям нонконформистской группы сильно помогало то, что, хотя официальная советская позиция, долгое время формулировавшаяся О. Б. Рахманиным, в целом была антикитайской, некоторые высокопоставленные советские деятели поощряли улучшение советско-китайских отношений и одобряли рекомендации нонконформистов. Идея о том, что конфликт между двумя социалистическими государствами и с теоретической, и с практической точки зрения ненормален и что отношения с Китаем следует постепенно нормализовать, никогда не умирала в среде высшего советского руководства. Некоторые руководители постхрущёвской эпохи разделяли эту точку зрения. Согласно Г. А. Арбатову, в январе 1965 г., во время первой после свержения Н. С. Хрущёва дискуссии в высшем советском руководстве по внешнеполитическим вопросам, предложения Ю. В. Андропова и министра иностранных дел А. А. Громыко подверглись критике со стороны предсовмина А. Н. Косыгина и члена Политбюро А. Н. Шелепина. По словам Г. А. Арбатова, они «ставили авторам в вину чрезмерную „
». На том же совещании А. Н. Косыгин пытался уговорить нового партийного лидера Л. И. Брежнева посетить Китай, но Л. И. Брежнев отмалчивался и даже, потеряв терпение, проворчал: «уступчивость в отношении империализма
“, пренебрежение мерами для улучшения отношений, сплочения со своими „естественными
“ союзниками, „собратьями по классу
“ (как мы поняли, имелись в виду прежде всего китайцы)Если считаешь это до зарезу нужным, поезжай сам
»256.
Судя по всему, после отставки Н. С. Хрущёва в советском руководстве существовало два мнения по китайской политике: уже в ноябре 1964 г., во время визита китайской делегации во главе с Чжоу Эньлаем в Москву для участия в праздновании 47-й годовщины Октябрьской революции, Л. И. Брежнев и А. И. Микоян дали понять, что коренного изменения как внешнеполитического курса Н. С. Хрущёва в целом, так и политики в отношении КНР не будет257. Скептическую позицию, видимо, занимал и Ю. В. Андропов, который был склонен усматривать глубокие исторические корни конфликта между китайскими и советскими коммунистами.258 В то же время А. Н. Косыгин и А. Н. Шелепин пытались добиться улучшений в отношениях. А. Н. Шелепин вскоре был отправлен в отставку, а А. Н. Косыгин был вынужден отказаться от своего мнения. Всё же не случайно, что именно А. Н. Косыгин дважды (в 1965 и 1969 гг.) побывал в Китае, пытаясь урегулировать ситуацию.
По словам Ф. М. Бурлацкого, А. Н. Косыгин, выступая за экономические реформы, считал, что он «в два часа
» восстановит дружбу и союз с Китаем, что, по его мнению, приведёт к определённому ужесточению отношений с Западом. Ф. М. Бурлацкий пишет, что после переговоров в Китае в феврале 1965 г. советскому премьеру пришлось признать свою ошибку. По словам Ф. М. Бурлацкого, после длительного объяснения с Мао Цзэдуном советский премьер понял, что китайский лидер «даже при самых больших уступках Советского Союза не согласится на восстановление нашего альянса, поскольку имеет совсем иные национальные цели
». Примерно так же оценивают мотивы и результаты визита А. Н. Косыгина А. Е. Бовин и Г. А. Арбатов, сопровождавшие своего шефа Ю. В. Андропова, который был членом делегации А. Н. Косыгина. А. Е. Бовин вспоминает: «Как я понимаю, у премьера (не у Андропова!) была всё-таки надежда сгладить острые углы, нарастить взаимопонимание. Не получилось. Китайцы, как и мы в „молодости“, были самодостаточны и непробиваемы. Их смущала полемика. Они ничего не хотели координировать
»259 Г. А. Арбатов подтверждает, что неудача визита «помогла разделаться с иллюзиями, будто с тогдашним Китаем можно легко наладить отношения и при этом обойтись без капитуляции в главных вопросах внешней и внутренней политики страны
»260. Из этого можно сделать вывод, что подобные иллюзии до этого существовали по крайней мере у части советских руководителей.
В своих воспоминаниях Ф. М. Бурлацкий приводит интересный эпизод, показывающий, что в тот период за улучшение отношений с Китаем часто выступали консервативно настроенные члены руководства. По его словам, сотрудники Отдела по заданию Ю. В. Андропова совместно с работниками МИД подготовили тексты речей А. Н. Косыгина. На их обсуждении в МИД его глава А. А. Громыко обрушился на них с критикой: «Что вы, не понимаете происходящих перемен? Что вы насовали в речь — мирное сосуществование с Западом, ⅩⅩ съезд, критику Сталина? Всё надо переписать заново в духе новой политики — жёсткой борьбы против американского империализма, который пытается задушить революцию во Вьетнаме. По-новому, тепло сказать о нашей неизменной дружбе с китайским народом
»261. Ф. Ф. Бурлацкий отказался вносить исправления, сославшись на то, что он подчиняется не МИД, а ЦК. Министр позвонил с жалобой Ю. В. Андропову, но тот отреагировал мягко. Ясно, что позиция А. А. Громыко по Китаю в тот период больше соответствовала подходу А. А. Косыгина, а написанные Ф. Ф. Бурлацким и его коллегами речи могли привести лишь к ещё большему раздражению китайского руководства. Парадоксально, но во внутренней политике (возможно, не в случае с А. Н. Косыгиным) и во внешнеполитическом курсе в целом она часто соответствовала стремлению закрутить гайки, вернуться к некоторым элементам сталинского подхода.
А. Н. Косыгин не оставил попыток улучшить отношения с Китаем и позднее. Не случайно именно он отправился в КНР в сентябре 1969 г., вновь на обратном пути из Вьетнама, чтобы попытаться отойти от крайне опасной конфронтации, уже дошедшей до уровня вооружённых столкновений на границе. Инициатива визита полностью исходила из Москвы, китайский премьер согласился встретиться с советским лишь в аэропорту. По свидетельству участника делегации, в то время работника Отдела ЦК Б. Т. Кулика, китайская сторона рассматривала встречу лишь как возможность сгладить наиболее острые углы пограничного конфликта, но «для советского руководства главным была сама встреча и что в Москве действительно питали надежду, а точнее сказать — иллюзию, будто в результате такой встречи удастся круто повернуть в сторону нормализации отношений между СССР и КНР
»262. Согласно Б. Т. Кулику, А. Н. Косыгин даже не подготовился к переговорам по границе, считая вопрос лишь предлогом для встречи. Об этом свидетельствует и ведение беседы с Чжоу Эньлаем:
Косыгин настойчиво стремился преуменьшить степень советско-китайских расхождений, представить их как некое недоразумение, чуть ли не как плод недомыслия чиновников обеих сторон, не умеющих отделить главное от второстепенного, важное от незначительного, раздувающих несущественные вопросы из-за своего чрезмерного служебного рвения. Он несколько раз повторял, что руководящие деятели такого уровня, как главы правительств двух стран, могут за пять минут решить задачи, над которыми чиновники бьются целыми годами. Более того, по его мнению, не представляла особой сложности и вся проблема советско-китайского раздора, возникшие противоречия при всей своей кажущейся огромности и неразрешимости по большому счёту не стоили, мол, и выеденного яйца. Давайте все наши разногласия, призывал Косыгин, свяжем в один узел и утопим в Уссури или в Амуре. И начнём наши отношения с чистой страницы263.
Б. Т. Кулик заключает: «Разумеется, Косыгин, человек весьма многоопытный и политически искушенный, сознательно упрощал действительное положение вещей, в том числе и с целью прозондировать позицию китайских лидеров. И всё же в его призывах в мгновение ока наладить советско-китайские отношения явно сказывалось отсутствие в Москве ясного понимания истинных причин и глубины раскола между СССР и КНР
». Чжоу Энь-лай встретил советского премьера «корректно
», но «с ледяной холодностью
» и старался не уклоняться от заявленной узкой темы: пограничных проблем264.
Там, где Б. Т. Кулик говорит о советском руководстве в целом, в действительности речь идёт о части руководителей, считавших, что улучшение отношений с Китаем крайне необходимо и ради него можно было бы пойти на некоторые уступки (или, по крайней мере, необходимые изменения во внутренней и внешней политике). Другая часть, в том числе и советский лидер Л. И. Брежнев, считала, что уступки были бы слишком велики, на меньшее Китай не пойдёт, поэтому перспективы улучшения отношений для них были весьма призрачными. Тем не менее сама идея улучшения отношений никогда не отвергалась высшими руководителями, Л. И. Брежнев в официальных выступлениях многократно говорил о его желательности.265
Попытки убедить высшее руководство наладить отношения с Китаем продолжались и позднее. Так, в 1974 г. Л. П. Делюсин написал записку в Отдел ЦК КПСС по заданию тогдашнего секретаря ЦК и заведующего Отделом К. Ф. Катушева. В ней он изложил программу улучшения советско-китайских отношений, которая в то время не была принята, но фактически была осуществлена гораздо позднее, в 80-е гг. Л. П. Делюсин предлагал, частности, отвести войска от границы, смягчить антикитайскую пропаганду, расширить контакты по неофициальным линия (в области образования, журналистики, туризма и т. п.), направить на работу в советское посольство дипломатов, открыто не участвовавших в пропагандистской кампании против маоизма, вести подготовку к переменам, которые «неизбежно произойдут после ухода Мао Цзэдуна
».266
Таким образом, идеи нонконформистов нашли заинтересованных слушателей среди советского руководства. К концу брежневского правления они приобретали всё больше влияния, поскольку даже высшие руководители чувствовали, что во внутренней и внешней политике нужно что-то менять. В результате Советский Союз смягчил свой подход к Китаю и начал делать примирительные жесты. В августе 1980 г. советский лидер Л. И. Брежнев, выступая в Алма-Ате, заявил, что в Китае происходят серьёзные внутренние процессы и что некоторые маоистские концепции подвергаются критике. По свидетельству А. Е. Бовина, этот текст вставил в речь помощник Генерального секретаря В. А. Голиков, которому «не терпелось „сблизить КПСС и КПК“
»267. А. Е. Бовин так описывает различие в позиции различных групп в ЦК в тот период:
Рахманин доказывал, что в Китае и после смерти Мао ничего не меняется. Мао свернул с социалистического пути, и нет ничего похожего, что китайцы корректируют антисоциалистические установки Мао. В нынешнем Китае и не пахнет социализмом. Поэтому для Рахманина и его «китаистов» тезис о «
серьёзных внутренних процессах» звучал как похоронный колокол. Голиков же полагал, что и при Мао Китай оставался социалистическим, хотя не исключено, что у «великого кормчего» был перебор по части революционности и антисоветизма: Надо поддержать китайцев, которые пытаются подретушировать Мао. И пора дружить. Кто теперь помнит о ⅩⅩ съезде. Не уверен, что Брежнев разбирался в этих тонкостях. Его логика была проще: Мао нет, «банду четырёх» посадили, значит, что-то стало меняться, и не в худшую сторону. Зондаж делу не повредит.268
В марте 1982 г., незадолго до своей смерти, Л. И. Брежнев посетил Ташкент и в своей речи дезавуировал идею рахманинской группы о том, что Китай безвозвратно отошёл от социализма. Советский руководитель официально подтвердил право Китая называться социалистическим обществом и вновь высказал желание восстановить нормальные отношения. В практическом смысле это означало, что Китай остаётся классовым другом и поэтому отношения с ним должны быть соответствующими269. В тот период это не привело к коренным изменениям линии Москвы, но свидетельствовало о том, что позиции противников группы О. Б. Рахманина на самом верху слабеют и против неё группируется альянс реформаторов — сторонников китайских реформ и консерваторов, мечтающих восстановить союз двух крупнейших в мире компартий назло врагам социализма.
МИД и советское посольство в Пекине стали постепенно получать сигналы не только от рахманинцев, но и от сторонников сближения, что привело к более сбалансированной позиции дипломатов. Е. П. Бажанов отмечает различия в подходе МИДа и Отдела ЦК уже в 1982 г., когда два учреждения по-разному оценили ежегодный отчет посольства, в котором китайские реформы рассматривались в традиционных тонах как продолжение маоистского курса и сползание к капитализму, а внешняя политика КНР оценивалась как проимпериалистическая и антисоветская. В то время как Отдел ЦК полностью одобрил эти выводы, сотрудники посольства подверглись критике в частных письмах руководителей МИДа, в которых говорилось, что в Москве уже никто не придерживается такого «глупого» подхода в отношении Китая. Различной была реакция и на составленный посольством в марте 1983 г. анализ китайской внешнеполитической стратегии, основанный на результатах визита в КНР госсекретаря США Дж. Шульца, в котором делался вывод о том, что Пекин начал проводить более сбалансированную внешнюю политику. МИД подчеркнул правильность заключения о том, что Пекин хочет дистанцироваться от Запада, в то время как ЦК, также в целом положительно оценив документ посольства, подчеркнул, что Пекин продолжает сближение с лагерем империализма, а разногласия с Вашингтоном не более чем небольшая размолвка в единой семье270.
Время работало против китаефобов. Ю. В. Андропов, придя к власти, сделал ряд жестов по улучшению отношений с Китаем, и нормализация, хотя и сдерживаемая рахманинцами, стала официальной политикой. Тем не менее и при К. У. Черненко, и даже в первый год пребывания у власти М. С. Горбачёва Отдел ЦК пытался тормозить этот процесс. Е. П. Бажанов, вспоминает, что, возвращаясь из Китая на поезде в 1984 г., он был поражён странным комментарием московского радио, в котором в весьма эмоциональном ключе критиковались якобы возобновившиеся пропагандистские атаки Пекина против СССР и его социалистической линии в международных отношениях. Когда он спросил друзей в МИДе, почему советское радио передаёт такие откровенно ложные комментарии, ему ответили, что это неудивительно, т. к. К. У. Черненко в отпуске и О. Б. Рахманин полностью контролирует СМИ, диктуя, что и как говорить о Китае271.
Первое время стремление советских лидеров к нормализации основывалось на стратегических и идеологических соображениях, желании найти общий язык с «социалистическим» соседом и усилить позицию Советского Союза по отношению к США. Такой подход чётко укладывался в рамки доминировавшей в то время стратегической концепции «треугольника» отношений между великими державами. С приходом к власти М. С. Горбачёва и провозглашением «нового мышления» во внешней политике ранее общепризнанные стратегические концепции начали сдавать позиции. Их сменила идея примата «общечеловеческих ценностей» и широкого международного сотрудничества. В соответствии с этими новыми политическими идеями стратегические соображения в советском подходе к Китаю в значительной степени подкреплялись идеей необходимости экономических и политических реформ внутри страны. Это определило настойчивость М. С. Горбачёва в поисках урегулирования. Антикитайское лобби, лидеры которого сделали карьеру в период эскалации напряжённости и расцвета мифа о китайской угрозе, хотя и не было полностью уничтожено, но к середине 1980-х гг. утратило контроль над решениями правительства и ЦК партии, и новое советское руководство приступило к установлению нормальных и даже дружеских отношений с восточным соседом. В 1986 г. был отправлен на пенсию секретарь ЦК и заведующий Отделом К. В. Русаков, который, впрочем, в связи с плохим здоровьем и так не контролировал ситуацию272.
Пришедший на смену К. В. Русакову близкий М. С. Горбачёву В. А. Медведев слабо разбирался в международных отношениях, и в соответствии с новым западноцентристским поветрием считал, что нормализация с Китаем нужна Москве только для оказания давления на США. Тем не менее он активно продвигал курс на нормализацию, что, естественно, привело к его конфликту с О. Б. Рахманиным. Этот конфликт подробно описан самим В. А. Медведевым, согласно которому вскоре после его назначения на новую должность «вольно или невольно стали проявляться бесплодность и пустоцветность тех людей, которые придерживались брежневских стереотипов и которые сводили свою деятельность к так называемой „оперативке“, а главную задачу видели в том, чтобы блюсти идеологическую верность, пресекать крамолу
»273. Согласно В. А. Медведеву, «внутри КПСС наряду с преобладающим мнением в пользу улучшения отношений с Китаем оставались всё же инерционные, консервативные настроения. Они исходили главным образом от тех, кто был прочно связан с разоблачением китайского шовинизма, кто ещё совсем недавно пытался доказывать, что китайское руководство лишь меняет свой внешний облик, оставаясь по существу таким же, каким было при Мао Цзэдуне
»274. «Именно на этой почве,— признаёт бывший руководитель Отдела,— совершенно неожиданно для меня возникли проблемы с первым заместителем заведующего отделом О. Б. Рахманиным
»275.
Сначала В. А. Медведев был неприятно поражён стилем работы О. Б. Рахманина, который, по его словам, сам не писал и не редактировал материалы своих подчинённых (как это было принято в ЦК), а лишь раздавал задания. «В общем,
— пишет В. А. Медведев,— я столкнулся с типичным случаем аппаратной работы, а точнее сказать — с примером организаторской суеты и творческого бесплодия. Как он писал свои книги?
»276 «Не менее неожиданным для меня
,— продолжает В. А. Медведев,— оказалось то, что в понимании отношений между соцстранами и более общих вопросов мировой ситуации Рахманин был глубоко привержен простым, но безнадёжно устаревшим стереотипам прошлого… Он по-прежнему занимал довольно жёсткую позицию в китайском вопросе, по инерции повторяя стереотипы о китайском гегемонизме и шовинизме, о его антисоветской политике, великодержавных устремлениях Пекина. Такого рода формулами и пассажами была оснащена его книга о советско-китайских отношениях, изданная уже в 1984 г.
»277
В. А. Медведев поясняет: «Ни для кого — ни у нас, ни в Китае — не было секретом, что автором книги является бывший первый заместитель заведующего Отделом ЦК КПСС, отвечавший за отношения с Компартией Китая, игравший одну из ключевых ролей в советско-китайской полемике и в разрыве с Китаем. Не случайно, что в международных кругах имела хождение шутка о том, что в советско-китайских отношениях наряду с тремя препятствиями, о которых открыто говорят китайцы, есть и четвёртое — О. Б. Рахманин (настоящая фамилия автора книги)
»278. У нового главы Отдела сложилось мнение, что «основную содержательную, творческую нагрузку несли в отделе несколько человек во главе с Шахназаровым, а распоряжался всеми Рахманин
». Причём говорили, что так было и при К. В. Русакове279.
Конфликт привёл к краткому периоду двоевластия. Дело доходило до абсурда. Так, по свидетельству Е. П. Бажанова, один раз он получил два задания: одно — от В. А. Медведева с требованием подготовить записку, доказывающую, что маоизм больше не практикуется в Китае, другое — от О. Б. Рахманина, для которого нужен был документ с выводами, что Китай остаётся маоистским. Е. П. Бажанов подготовил обе записки, и два руководителя Отдела использовали каждый свою для спора друг с другом280.
В конце концов неизбежным результатом конфликта стало поражение О. Б. Рахманина. Сначала в отделе была введена должность второго первого зама (на которую назначили Г. X. Шахназарова), и обязанности О. Б. Рахманина были ограничены Востоком, а вскоре его отправили на пенсию. По словам В. А. Медведева, четвёртое «препятствие» было устранено, но «не ради того, чтобы потрафить китайцам, а исходя из интересов дела
»281. Лишился поста заместителя министра иностранных дел и М. С. Капица (последнее время занимавший более гибкую позицию), который был назначен директором Института востоковедения АН СССР, а постепенно и большинство других рахманинцев282. Многие из них нашли работу в Институте Дальнего Востока, главой которого был М. Л. Титаренко, в прошлом близкий сотрудник О. Б. Рахманина, получивший эту должность при его активной поддержке.
Одной из основных целей новой внешней политики горбачёвского СССР было создание благоприятных внешних условий для проведения внутренних реформ. Её достижение во многом зависело от примирения с Пекином. Улучшение отношений с Китаем было необходимо для успеха горбачёвской политики. Резкое сокращение вооружённых сил и военных расходов, ускоренное развитие Сибири и советского Дальнего Востока, связанное с расширением приграничной торговли, урегулирование в Афганистане и Кампучии, участие СССР в региональном экономическом сотрудничестве в АТР — все эти и ряд других целей внешней и внутренней политики М. С. Горбачёва были непосредственно связаны с состоянием советско-китайских отношений. Борьба за контроль с различными группами в партии, КГБ, армии и МИДе, которые получали дивиденды от конфронтации и поэтому были заинтересованы в её продолжении, была тяжёлой, но необходимой для поддержки курса на примирение с Пекином, которое стало одним из краеугольных камней внешней политики М. С. Горбачёва.
Для достижения этих целей советский лидер нуждался в поддержке как специалистов, так и СМИ, и такая поддержка была обеспечена. Горбачёвская перестройка полностью изменила отношение к Китаю. Сторонники перемен в СССР получили возможность активно пропагандировать китайский опыт283. Советский посол в Китае О. А. Трояновский, назначенный М. С. Горбачёвым в 1986 г., вспоминает настроения того времени. Признавая, что в конце 50-х — 60-х гг. он выступал против каких-либо уступок Китаю, следовавшему «левым» курсом, О. А. Трояновский отмечает, что ко времени его назначения «китайское руководство на деле приступило к реформам, о которых мы ещё только теоретизировали, не зная, с чего начинать. Изменилось и моё отношение к Китайской Народной Республике. Можно сказать, что я был обращён в новую веру
»284.
Эта тенденция, однако, имела и негативную сторону. Многие описания ситуации в Китае были чрезмерно восторженными и благодушными. Искажённая информация приходила из нескольких источников. Советские обозреватели, в том числе неспециалисты, получившие возможность посетить Китай после улучшения двусторонних отношений, искренне восхищались изобилием потребительских товаров, а те, кто хотел ускорить перестройку, часто старались преувеличить достижения китайских реформ, особых экономических зон и т. п., чтобы подтолкнуть советское правительство к аналогичным мерам. Наконец, многие журналисты, учёные и дипломаты, приученные писать только то, что устраивает начальство, уловив новое настроение, из чисто карьеристских соображений быстро подключились к кампании восхваления китайских реформ. В то же время некоторые исследователи продолжали довольно скептически относиться к китайским реформам, но это были в основном принципиальные противники любых преобразований, ревнители «чистого социализма», чья критика имела не научную, а идеологическую мотивацию и поэтому не принималась всерьёз новым руководством, стремившимся деидеологизировать международные отношения. Эти авторы, в основном публиковавшие свои работы в журнале Института Дальнего Востока «Проблемы Дальнего Востока», продолжали пугать читателей описаниями несоциалистического характера политики китайского руководства.
В первой половине 80-х гг. обозревателю или дипломату была необходима сильная независимая позиция и даже личная смелость, чтобы высказать позитивную оценку китайских реформе т. к. это противоречило интересам доминирующего антикитайского лобби. И это в тот период, когда эти реформы, особенно в области сельского хозяйства и производства потребительских товаров, привели к впечатляющим результатам. Ко второй половине 80-х гг. реформы в Китае начали пробуксовать, и их непоследовательность и применение бюрократических методов вызвали в самом Китае широкое общественное недовольство. Однако по иронии судьбы именно в это время советская печать наиболее бурно восхваляла положение в Китае, причём порой даже устами бывших «критиков маоизма». Цензура в МИДе и ЦК КПСС изо всех сил старалась не пропускать статьи, которые могли вызвать малейшее неудовольствие «китайских товарищей»285. В июне 1989 г. Н. Анин на страницах «Нового времени» признавал: «В последние годы китайские учёные, журналисты, чиновники неоднократно обращались к представителям советской прессы с просьбой: не приукрашивайте положение дел в экономике и общественной жизни КНР, не завышайте наших достижений! Но сознательно или нет, а советская печать продолжала рисовать китайские политические и экономические пейзажи преимущественно розовыми красками
». По словам Н. Анина, это явление имело четыре основные причины:
Во-первых, потому, что успехи Китая в самом деле не могли не впечатлять… Во-вторых, советские граждане, попав в КНР и имея в кармане немалые по китайским меркам денежные средства, не всегда осознавали, что красивые и дефицитные в СССР товары, которые они запросто покупали в магазинах Пекина и Шанхая, не по карману большинству китайцев или же не пользуются у них спросом. В-третьих, даже понимавшие, что дела в Китае идут не столь блестяще, не всегда говорили об этом вслух — дабы не «обидеть» соседа. Ведь советско-китайские отношения только-только начинали выходить из длительного и болезненного кризиса, и не хотелось повредить первые побеги возрождавшейся дружбы двух народов. В-четвёртых, некоторые советские учёные и журналисты как бы лукавили не без умысла: ссылки на китайский опыт использовались ими для подкрепления аргументов в пользу укрепления перестройки в СССР.286
В определённой степени этот поток искажённой информации ввёл советское руководство в заблуждение. Естественно, лидеры страны получали информацию не из печати, но рекомендации экспертов в основном шли в том же русле. Это отразилось в официальных советских оценках студенческих волнений 1989 г. в Китае, подавленных китайскими властями. В мае 1989 г. М. С. Горбачёв прибыл в Китай с официальным визитом, который означал завершение процесса нормализации двусторонних отношений. Он ожидал увидеть Китай, пожинающий плоды успешных реформ, всеобщее процветание и энтузиазм, а приехал в страну, где бушевали страсти, увидел горечь и разочарование простых людей. Его заявления во время визита и после него свидетельствуют о том, что советский лидер не сумел адекватно оценить конфликт во всей его сложности. У него нашлось несколько добрых слов по поводу восторженного отношения студентов к советским реформам, и он отметил, что их требования совпадали с лозунгами, выдвинутыми КПК. Он также говорил о необходимости найти политическое решение путём диалога, но в тот момент это не противоречило официальной позиции китайского правительства287.
Советская реакция на события на площади Тяньаньмэнь 1989 года
Жестокое подавление антиправительственного движения в Китае в июне 1989 г. шокировало советских наблюдателей и демократических активистов и привело к новому расколу в подходе к этой стране. Чтобы понять, почему официальная советская реакция была крайне осторожной, необходимо иметь в виду значение хороших отношений с Китаем для положения М. С. Горбачёва внутри страны. В сущности, внешняя политика — одна из немногих, если не единственная сфера, в которой новый советский лидер мог претендовать на реальный прорыв; этот факт признавался многими. Переход от конфронтации к активному сотрудничеству с Китаем пользовался широкой поддержкой самых различных политических и социальных групп, а достижение полной нормализации двусторонних отношений, объявленное во время широко освещавшегося визита президента СССР в Пекин, стало, возможно, самым безусловным внешнеполитическим успехом горбачёвского руководства. Если к политике расширения контактов с Западом, в целом популярной, некоторые группы всё же относились с подозрением (например, многие консерваторы обвиняли руководство страны в «ревизионизме», «сдаче классовых позиций» и расширении «тлетворного влиянии Запада» в СССР), то нормализацию отношений с коммунистическим Китаем одобряли даже они.
В то же время во внутренней политике М. С. Горбачёву было трудно продемонстрировать хоть какие-то успехи. Экономическая реформа не принесла серьёзных результатов, жизненный уровень падал, и на прилавках оставалось всё меньше товаров, что только усиливало общественное недовольство. В этих условиях курс на китайском направлении стал одним из самых сильных козырей. Для понимания последующих действий М. С. Горбачёва необходимо иметь в виду, что совпадение его визита с эскалацией протестов поставило его в довольно затруднительное положение. Получилось, что он как бы невольно подлил масла в огонь. Студенты наивно полагали, что М. С. Горбачеву как-то удастся убедить китайское руководство начать с ними диалог. Они также ставили М. С. Горбачева в пример Дэн Сяопину, приветствовали советские реформы и выкрикивали лозунги типа «Поменяем Дэна на Горбачёва!
»288.
Именно в этом контексте следует рассматривать первую официальную советскую реакцию на события в Китае: заявление, принятое Съездом народных депутатов 7 июня. Документ принимался в большой спешке, в основном не с целью прояснить официальную позицию, а чтобы не давать слова по этому вопросу отдельным депутатам. Сразу же после принятия заявления был объявлен перерыв, а процедура проводилась так поспешно, что многие депутаты просто не успели уяснить содержание документа. Поэтому два дня спустя группа депутатов выступила с собственным заявлением; оно радикально отличалось от первого, против которого 7 июня проголосовал только один человек.
М. С. Горбачёв явно боялся иных мнений по данному вопросу и не знал, как на них реагировать. Кроме того, он плохо представлял себе положение в КНР, истинные причины конфликта. Сразу после приезда из Китая советский лидер высоко оценивал роль Чжао Цзыяна и встречи с ним. Однако после снятия Чжао Цзыяна в беседе с венгерскими коммунистами М. С. Горбачёв объяснил причины его отставки тем, что китайский руководитель и его дети были замешаны в коррупции, а сам он был так зачарован сотрудничеством с США, что им начало манипулировать ЦРУ, и это, естественно, не понравилось Дэн Сяопину.
Настойчивое желание не раздражать китайское руководство проявилось в том, что заявление осторожно характеризовало применение военной силы против демонстрантов как «столкновения между участниками массовых выступлений молодёжи
» с войсками. Из его текста не было ясно, кто использовал огнестрельное оружие и кто ответственен за многочисленные жертвы. В документе подчёркивалось, что сейчас не время для поспешных выводов и заявлений (явное напоминание депутатам и другим общественным деятелям), отмечалось, что всё происходившее было «внутренним делом
» Китая, и содержалось предостережение от несвоевременных попыток «давления со стороны
». «Такие попытки
,— говорится в заявлении,— лишь подогревают страсти, но никак не способствуют стабилизации обстановки
». В заключительной части выражались надежда, что «мудрость, здравый смысл, взвешенный подход возобладают, из сложившейся ситуации будет найден выход, достойный великого китайского народа
», а также пожелание «дружественному китайскому народу как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу своей истории и пойти вперёд по пути экономических и политических преобразований, по пути строительства сильного, миролюбивого, свободного социалистического Китая, великой страны, пользующейся уважением и симпатией своих соседей, всего человечества
»289. В последней фразе содержалась суть заявления: СССР заинтересован в продолжении китайских реформ, т. к. только при этих условиях возможно расширение сотрудничества, которое наилучшим образом отвечает советским интересам.290
На первой сессии нового Верховного Совета СССР М. С. Горбачёв сделал ещё более недвусмысленное заявление:
Процесс перемен, который идёт в такой стране, как Китай, явление мирового масштаба. Мы, естественно, желаем успеха китайскому народу в движении по пути преобразований, по пути, избранному им самим. Своё отношение к трагедии, происшедшей в Пекине, мы высказали. Мы сожалеем о том, что так получилось. Мы за то, чтобы самые острые проблемы решались через политический диалог властей с народом. Так мы думаем. Такой метод избрали для себя. Но свои проблемы каждый народ решает сам. Это наша принципиальная и, я думаю, необратимая позиция.291
Хотя в словах М. С. Горбачёва и не содержалось прямого осуждения действий китайского правительства, он ясно дал понять, что в аналогичной ситуации действовал бы по-другому — начал бы диалог с протестующими. Вероятно, М. С. Горбачёв занял наиболее разумную в данных обстоятельствах позицию. Любая прямая официальная критика вызвала бы крайне резкую реакцию в Пекине, нанесла бы удар по советско-китайскому сотрудничеству и ослабила бы положение М. С. Горбачёва внутри страны.
Советские средства массовой информации уделяли событиям в Китае немного внимания, а если и уделяли, оно было весьма сдержанное. Однако из этих источников всё же можно было получить о них некоторую информацию. Официальная газета КПСС «Правда», не имевшая собственного корреспондента в Пекине, в апреле, мае и июне 1989 г., как правило, ограничивалась перепечаткой официальных сообщений ТАСС. Впервые студенческие демонстрации упоминаются в «Правде» 22 апреля, т. е. через пять дней после их начала. 5 мая «Правда» снова сообщала о крупномасштабных демонстрациях, приуроченных к годовщине «Движения 4 мая». В опубликованном в газете сообщении ТАСС говорилось, что в демонстрациях, носивших «организованный и мирный характер
», участвовало более 10 тыс. человек292. Во время визита М. С. Горбачёва специальный корреспондент «Правды» В. В. Овчинников в одном из своих сообщений упоминал о демонстрациях (главным образом в связи с решением выбрать другое место для официальной церемонии приветствия) и об их общем влиянии на визит293. Только после отъезда советского лидера газета почти ежедневно начала публиковать короткие заметки о ситуации в Пекине. В сообщении от 5 июня о подавлении движения упоминались солдаты, открывающие «огонь без предупреждения
», и рассказывалось о том, что «на глазах у иностранных корреспондентов была застрелена семилетняя девочка
»294. После этого все сообщения газеты, очевидно получившей соответствующие указания, основывались исключительно на информации официального китайского агентства «Синьхуа».
Гораздо больше информации давала официальная газета правительства и парламента «Известия», имевшая собственного корреспондента в Пекине, но и она была весьма дозирована и, как правило, отражала официальную точку зрения Пекина. Так, в материале 1 мая корреспондент в Пекине Ю. Б. Савенков излагал реакцию властей на «студенческие демонстрации и волнения в университетских городках
», хотя и сообщал о некоторых требованиях студентов и создании независимой студенческой ассоциации295. 4 мая Ю. Б. Савенков вновь сообщал о демонстрациях студентов в Пекине, однако из информации могло сложиться впечатление, что шествия были официальными и их участники поддерживали КПК296. Лишь очень внимательный читатель, продравшись сквозь подробно излагавшиеся официальные китайские оценки, мог сделать вывод об оппозиционном характере студенческого движения. Обычно подобные сведения давались в самом конце.
11 мая газета опубликовала комментарий политического обозревателя А. Е. Бовина, посвящённый подготовке визита М. С. Горбачёва в Пекин. В статье, направленной на налаживание конструктивного диалога, в частности изучение опыта Китая в экономической области, где «реформы — особенно в деревне — были радикальнее
», говорилось: «Большое значение мог бы иметь и обмен опытом в области перестройки политической жизни. Здесь, пожалуй, мы идём впереди, сталкиваясь и с плюсами, и с минусами демократии, гласности, пробуждения общественной активности. Ускоренные курсы повышения политической культуры проходит и Китай. Массовые выступления студентов показали, сколь накалена атмосфера, как трудно бывает наладить нормальный диалог властей с „улицей“, с „площадями“, которые теперь заговорили громким голосом
»297.
В последующих материалах о Китае, вплоть до начала визита М. С. Горбачёва, о волнениях не сообщалось вовсе. 12 мая были опубликованы фотографии обычной жизни.298 Первые два дня визита сообщения о демонстрациях также были весьма осторожны299. Однако информация второго дня о трудностях с проходом в здание ВСНП, где должна была состояться встреча М. С. Горбачёва с Дэн Сяопином, могла вызвать некоторую настороженность у читателя: «Это расположенное на бескрайней центральной площади Тяньаньмэнь здание оказалось для легиона журналистов почти недоступным. Выданные нам многочисленные пропуска различных цветов и названий поначалу казались немощными в сравнении с человеческой стихией, разбушевавшейся на гигантской площади и в прилегающих к ней районах. Многочисленные массы студентов, и не только студентов (мы видели в числе других колонны сотрудников Академии общественных наук КНР и редакции «Жэньминь жибао»), двинулись сюда, где несколько дней идут массовые демонстрации с требованием ускорить процесс демократизации
»300. В репортаже о следующем дне визита сообщалось о голодовке студентов, а в итоговой статье «Четыре знаменательных дня» — о том, что студенческие волнения проходят и в других городах Китая301. Однако информация о студенческом движении занимала лишь небольшое место среди сообщений о ходе визита советского лидера, отзывов на него, официальной информации. Интересное признание того, что студенческие беспорядки помешали выполнить некоторые пункты программы визита, содержалось в передовой от 20 мая, также посвящённой итогам поездки М. С. Горбачёва302.
О введении военного положения в Пекине в газете было сообщено лишь на третий день, однако с этого дня информация о студенческих волнениях стала довольно подробной, хотя собственные наблюдения Ю. Б. Савенков аккуратно уравновешивал официальной информацией, а наиболее острые сообщения подавал как информацию, полученную от иностранных корреспондентов или из зарубежных СМИ. К концу мая у читателя «Известий» должно было сложиться впечатление, что волнения стихают, обстановка стабилизируется, студенты расходятся по домам, в то время как правительство согласилось на серьёзный диалог с недовольными303. Лишь после начала вооружённых столкновений в сообщениях Ю. Б. Савенкова наступает прорыв. В нескольких статьях события в Пекине и других городах описываются подробно, объективно, представлена позиция различных сторон304. Однако это продолжается лишь до 9 июня. Затем «Известия», как и «Правда», переходят к изложению почти исключительно официальной информации и к другим темам китайской жизни, уходя от описания последствий подавления волнений305.
Короткие телерепортажи почти не показывали кровопролития, хотя в эфир шли отрывки зарубежных съёмок. Центральные газеты в то время по-прежнему подвергались цензуре306, но не так строго контролировавшиеся политические еженедельники «Новое время» и «Эхо планеты» давали более объективную информацию, описывая студенческие демонстрации и деятельность некоторых оппозиционных групп и представителей интеллигенции307.
Реакция советского общественного мнения на тяньаньмэньские события отличалась от оценок Кремля и была неоднозначной. Подавление массового движения в Китае совпало со временем, когда реформаторская оппозиция коммунистической власти в СССР была наиболее активной и популярной. Пекинское кровопролитие в сознании радикально настроенной общественности было напрямую связано с жестоким подавлением демонстраций в Тбилиси, случившимся всего за несколько недель до этого, а также с кровавыми столкновениями в Армении и Казахстане и рассматривалось как демонстрация попытки прекращения перестройки в СССР. Китайские реформы неизменно сравнивались в СССР с перестроечными преобразованиями, и поэтому позиция, занятая различными социальными группами относительно событий в Китае, в действительности определялась их отношением к переменам в Советском Союзе.
Начиная с 15 мая почти все в Советском Союзе с большим вниманием следили за прямыми телевизионными трансляциями с Ⅰ Съезда народных депутатов СССР, представительного органа, впервые за многие годы созданного в результате относительно свободных выборов. Телевизионные трансляции со съезда стали первой в истории страны телепрограммой, не подвергавшейся цензуре. Депутаты-реформаторы присутствовали на ежедневных митингах, на которых москвичи требовали от них, среди прочего, большей решительности в реакции на китайские события, т. к. многие были разочарованы официальным заявлением. Не отвечало оно и настроению реформаторски настроенных депутатов, хорошо выраженному А. А. Собчаком, впоследствии одним из лидеров демократического движения, который прямо перед съездом побывал в Китае. В своих воспоминаниях А. А. Собчак пишет:
Я приехал, а точнее, прилетел в Москву из Китая, где 21 мая 1989 года стал свидетелем трёхмиллионной демонстрации, потрясшей и Пекин, и всю страну. Это была прелюдия к последующим кровавым событиям, людской, совсем не тихий, океан в самом точном смысле этого слова. Никогда ничего подобного я в своей жизни не видел. Когда 22 мая мы ехали из советского посольства в аэропорт, путь нам несколько раз преграждали баррикады из автомашин и бетонных блоков. Около них дежурили студенты и горожане. Их настороженные лица были скованы ожиданием, но, узнавая, что машина дипломатическая, и притом советская, нас пропускали.308
Итогом этих настроений стало выступление на съезде А. Д. Сахарова. Говоря о необходимости оценивать события с точки зрения общечеловеческой морали, он призвал съезд принять резолюцию об отзыве советского посла из Китая в знак протеста. А. Д. Сахаров также объявил, что группа депутатов, известная как Межрегиональная депутатская группа (МДГ), выступила с обращением по данному вопросу. Как только академик начал говорить о Китае, его микрофон был отключен председательствовавшим на съезде М. С. Горбачёвым, что свидетельствует о крайней чувствительности темы (формально А. Д. Сахаров превысил регламент). Это дало предлог не включать слова А. Д. Сахарова в официальную стенограмму, которая на следующий день была опубликована в «Известиях». Председатель также не разрешил зачитать на съезде обращение МДГ, и оно было публично оглашено только на массовом митинге в Лужниках. Этот документ выражал мнение участников демократического движения, заключавшееся в том, что подавление студенческого движения в Китае — это часть единого плана коммунистов по возврату к старым диктаторским методам во всём социалистическом лагере. После критики официального заявления съезда и сообщения о том, что использование регулярных войск для подавления демонстрации привело к тысячным жертвам, в документе говорилось:
Почерк напуганных сил реакции везде одинаков — будь то в Минске или Вильнюсе, Ереване, Тбилиси или в городах Китая. Мы, народные депутаты СССР, соболезнуем пострадавшим и родственникам погибших китайских товарищей. Мы осуждаем применение карательных мер, использование армии против собственного народа. Мы призываем власти в Китайской Народной Республике вступить в диалог с народом, воздерживаться от наклеивания ярлыков в духе времен «культурной революции». Мы призываем правительство Китая остановить кровопролитие.309
Сравнение с событиями в СССР здесь очевидно. Как показано автором данной работы в исследовании представлений российских демократических активистов, события в СССР рассматривались ими «как части одного процесса всемирно-исторической борьбы сил прогресса и реакции, „демократии“ и „тоталитаризма“. Они принимали заявления и декларации в поддержку своих коллег по всему миру, считая их борьбу частью собственной
»310. Китай рассматривался лишь как одно, хотя и важнейшее поле этой битвы, и демократические активисты, обеспокоенные, что Кремль может аналогично поступить и с ними, оказывали давление на своих представителей на Съезде народных депутатов. В обращении московского районного клуба избирателей от 7 июня 1989 г. говорилось: «Мы, избиратели Пролетарского округа № 20 г. Москвы, встревожены повсеместными проявлениями неконтролируемого насилия в нашей стране и соседних с ней странах — Болгарии и Китае. Мы просим вас, народных депутатов СССР, принять на Съезде Декларацию о ненасильственном решении всех политических вопросов в СССР, а также требуем, чтобы Съезд выразил своё отношение к подавлению мирной демонстрации студентов в Пекине 3—4 июня 1989 г.
»311
Китайский вопрос многократно поднимался на митингах, проходивших в Москве во время Ⅰ Съезда народных депутатов. На одном из них, организованном обществом «Мемориал», которое ставило своей целью искоренение остатков сталинизма, присутствовало 10 тыс. человек. Митинг принял резолюцию, осуждавшую китайское правительство и поддерживавшую молодёжь Шанхая и других китайских городов, где антиправительственное движение к тому моменту ещё не было подавлено. Советские независимые группы участвовали в митингах и демонстрациях китайской молодёжи, проходивших рядом с китайским посольством в Москве. Общество «Мемориал» провело независимую дискуссию о событиях в Китае, на которой присутствовали некоторые ведущие советские китаеведы и другие представители общественности. Вел дискуссию Л. П. Делюсин. Проблема также обсуждалась на собраниях «Московской трибуны», независимого клуба сторонников реформ, объединявшего научные круги Москвы, Своё мнение по китайским событиям высказал образованный незадолго до этого независимый Союз ученых СССР. В заявлении «О событиях в Китае», сделанном делегатами учредительной конференции этого Союза, применение вооружённых сил против мирных демонстраций называлось «преступным
». Делегаты также поддержали оценку событий в Китае, данную А. Д. Сахаровым на Съезде народных депутатов, и обращение МДГ312. Неоднократно публично осуждал действия китайского руководства Б. Н. Ельцин, в то время народный депутат СССР и один из лидеров демократического движения.
Постепенно неофициальные мнения начали проникать и в печать. Первые статьи, дававшие независимый взгляд на события в Китае, появились на страницах фактически неподцензурной прибалтийской прессы. Но и цензура центра постепенно отступала, поскольку становилось всё более трудно замалчивать мнения многих известных общественных деятелей, включая некоторых народных депутатов СССР. Атака на официальную позицию, поначалу крайне осторожная, была предпринята наиболее либеральными газетами и журналами. 11 июня на страницах «Московских новостей» председатель правления агентства печати «Новости» А. И. Власов выразил свою искреннюю поддержку официальному заявлению съезда, найдя в нём нечто, чего в действительности в нём не было:
Заявление съезда исходит в то же время из нравственного императива: совместно с другими народами искать путь к верховенству общечеловеческой идеи. Путь этот не может быть орошён кровью — к такому выводу привели нас трагические события в Тбилиси, происшедшие в те же самые дни, когда в Китае только-только завязывался конфликт, завершившийся утром 4 июня. Мы нашли в себе силы дать честную оценку случившемуся в Грузии, дабы подобное не повторилось. Так нужно ли прикидываться равнодушными, видя, как сходная с нашей беда, только куда более крупных масштабов, «перебирается» в дом нашего доброго соседа?313
В последних словах можно разглядеть скрытую ноту критики официальной позиции, хотя автор, государственный служащий, с самого начала обезопасил себя, выразив искреннее согласие с заявлением съезда.
2 июля в той же газете народный депутат СССР и председатель Общественной комиссии по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Ф. Ф. Бурлацкий осудил использование армии для подавления внутренних беспорядков, а также казней в Китае и других странах314. 9 июля в «Московских новостях» сотрудник Института Дальнего Востока С. Н. Гончаров, тщательно обходя сущность событий в Китае, тем не менее признал, что они произвели «тягостное впечатление
» на людей во всём мире, в том числе и в СССР315.
К концу июля авторы материалов, появлявшихся в газетах и журналах, выражались более откровенно. В еженедельнике «Огонёк» было опубликовано интервью с А. Д. Сахаровым, в котором он повторил своё мнение о подавлении демонстраций, подверг критике официальное заявление и заметил, что нельзя «ставить в один ряд тех, кто в ходе мирных студенческих и общенародных демонстраций требовал демократизации, свободы печати, борьбы с коррупцией, с теми, кто осуществил над ними кровавую расправу
»316. В статье, посвящённой проблемам взаимосвязи нравственности и политики в советской внешнеполитической стратегии, А. Кортунов и А. Изюмов резко критиковали цензуру в области международной информации в печати, используя в качестве примера советскую реакцию на события в Китае. Отметив, что большинство развитых стран осудили насилие против безоружных людей в Китае и приняли санкции против этой страны, авторы выразили неудовлетворение советским «нейтральным заявлением, не содержащим ни слова в осуждение действий китайской армии
». По словам авторов, «самым показательным в советской реакции было то, что практически ни в одной публикации, ни в одной теле- или радиопередаче не было выражено альтернативное мнение!
». Они задавались вопросом: «Неужели все наши комментаторы так единодушны в поддержке действий китайских властей? Ну ладно правительство, МИД и парламент — у них могут быть какие-то „высшие“ интересы (хотя напомним — по теории, выше общечеловеческих у нас теперь интересов нет), но почему же не дать высказать свои чувства тем советским гражданам, у кого поведение китайских властей вызывает лишь протест? Или выражение мнения по общечеловеческим вопросам остаётся у нас монополией государства?
»317
В журнале «Век ⅩⅩ и мир» автор настоящего исследования также высказался за более сбалансированный подход к интересам СССР в мире и будущим отношениям с Китаем. Этот журнал, вероятно, самый либеральный в то время, осмелился опубликовать следующие строки лишь в виде письма читателя (обращённые к горбачёвскому руководству):
У тех, кто придерживается идеала гуманного, демократического социализма, есть только один путь оценки действий китайского правительства — тот, которым пошло большинство европейских компартий. Конечно, ситуация довольно деликатна, так как только что произошло восстановление отношений с Китаем, явившееся крупным успехом советской внешней политики. Однако, согласившись с расстрелом мирной демонстрации, совершённым «от имени социализма», мы вновь окажемся в одиночестве перед общественным мнением всего цивилизованного мира. С другой стороны, и обстановка в Китае сейчас такова, что расстрел на центральной площади не может долго официально одобряться. В недавней истории КНР уже были расстрелы массовых движений, которые затем осуждались самим правительством,— достаточно вспомнить о событиях на той же площади Тяньаньмэнь в 1975 году. В этих условиях недостаточно твёрдая оценка трагедии июня 1989 года может ввести нас в противоречие со всем китайским обществом и либеральной частью руководства КНР.318
Не все в СССР сочувствовали китайским демонстрантам или не одобряли официальную позицию, занятую советским правительством. Консервативные противники горбачёвских реформ направляли в газеты и журналы письма с одобрением действий китайского правительства, в которых говорилось, что применение оружия было единственным способом остановить «крикунов», «демагогов-ревизионистов» и «западных агентов», и содержались призывы к советским властям применять аналогичные методы, только в более широких масштабах, в СССР. Одно из таких писем в качестве примера было прочитано по телевидению в программе «Международная панорама» её ведущим, политическим обозревателем «Известий» А. Е. Бовиным, который вскоре после событий выступил с критикой официальной советской реакции. Некоторые опросы общественного мнения показали, что подобную консервативную точку зрения поддерживали не более 6—7 процентов населения, однако многие из этой группы занимали высокие государственные посты. Хотя откровенные пропекинские заявления не публиковались в газетах, некоторые консервативно настроенные журналисты всё же косвенно выражали поддержку действий китайского руководства в форме согласия с первоначальной официальной советской реакцией.
Так, в статье «Отзывать ли посла из Пекина?», появившейся 25 июня 1989 г. в «Московских новостях», политический обозреватель АПН В. Симонов в целом соглашается с официальной китайской интерпретацией событий, заявляя, что «говоря языком китайской печати
», там произошла «странная трансформация
» студенческого движения в «контрреволюционный мятеж крайне немногочисленных элементов, ненавидящих компартию и социалистический строй
»319. В. Симонов не советовал советскому правительству оказывать нажим на Китай и открыто дезориентировал читателей, уверяя их, что «ни одна из западных столиц, по существу, не пошла на резкое ухудшение своих отношений с Пекином
»320. Явно намекая на А. Д. Сахарова и его сторонников, автор выражал убеждение, что те, кто добивается «жёстких позиций Москвы
», «оглядываются назад
». Он заключал: «В данных условиях это было бы формой нажима на Китай, противоречащей новому мышлению. Может быть, и искренние, но наивные советчики, в сущности, тоскуют по арсеналу силовой политики. Ведь именно невмешательство извне в высшей степени нужно сегодня китайскому народу. Только в этой обстановке можно осмыслить случившееся, не позволить трагедии остановить движение общества к модернизации
»321.
Н. Анин в «Новом времени» выражал аналогичное мнение. Подчёркивая необходимость бороться с врагами социализма, он недвусмысленно поддерживал официальную советскую позицию: «Критиковать действия военных на Тяньаньмэне не стоит ещё и потому, что неизвестны очень многие факты этой трагедии в далёком Пекине. Не приходится сомневаться, что в КНР есть и те, кто выступает против социализма, и те, кто хотел бы вновь ввергнуть страну в пучину „культурной революции“, имеются и просто уголовники
»322.
Тяньаньмэньские события 1989 г. стали поворотным пунктом в восприятии Китая в советском обществе, ускорив тенденции, уже развивавшиеся некоторое время. С крахом власти КПСС политические перемены в СССР стали быстрыми и необратимыми. События на Тяньаньмэнь очень чётко показали, что КПК не собирается расставаться с властью или хотя бы допустить тот уровень свободы, которым уже пользовались советские люди. Кроме того, первое время после подавления беспорядков было неясно, продолжит ли пекинское руководство курс на экономические реформы. Поэтому с того времени советские и российские реформаторы и демократические активисты перестали видеть в Китае пример успешных экономических и особенно политических реформ. Наоборот, он стал символом жестокой природы коммунистического режима, который ради сохранения власти не остановится ни перед чем. Пример подавления оппозиционного движения в Китае часто приводился в размышлениях российских реформаторов о намерениях противников преобразований в СССР. Наоборот, консервативные оппоненты горбачёвского руководства из коммунистического и националистического лагеря указывали на Китай при попытках объяснить Кремлю, как покончить с беспорядками и их организаторами, якобы ведущими страну к хаосу.
Влияние тяньаньмэньских событий на советско-китайские отношения было более ограниченным. Оно свелось к попыткам некоторых политиков-реформаторов свернуть проявления официальной дружбы в отношении тех, кого считали ответственными за кровопролитие. Так, во время визита китайского премьера Ли Пэна в СССР в апреле 1990 г. группы демократов и правозащитников организовали демонстрации, заклеймившие его как убийцу. Некоторые антикоммунистические депутаты демократически избранного Моссовета попытались провести резолюцию, не позволявшую городским властям принять участие в церемонии встречи премьера, а новоизбранный демократический председатель Ленсовета А. А. Собчак не стал встречаться с китайским лидером. Возник раскол по китайскому вопросу и на самом верху. По данным Е. П. Бажанова, А. Н. Яковлев и Э. А. Шеварднадзе, а также многие реформаторски настроенные сотрудники ЦК КПСС были настолько разочарованы Пекином, что старались избегать любых контактов с его официальными представителями. В то же время многие будущие участники и сторонники ГКЧП: вице-президент Г. И. Янаев, руководитель аппарата президента СССР В. И. Болдин, руководители Московского горкома КПСС активно встречались к китайскими делегациями и дипломатами, причём на встречах довольно открыто критиковали политику М. С. Горбачёва, выступали за укрепление руководящей роли КПСС, называли лидеров реформаторской оппозиции врагами и агентами ЦРУ, поздравляли китайских гостей с победой над «врагами социализма». Согласно Е. П. Бажанову, в этот период «консерваторы вокруг М. С. Горбачёва использовали „китайскую карту“, чтобы убедить своего босса остановить „перестройку“ и „навести порядок в советском доме“
»323.
Порой казалось, что и М. С. Горбачёв склоняется к этой позиции и пытается использовать дружбу с социалистическим Китаем против империалистических США. В мае 1991 г. он тепло принял китайского лидера Цзян Цзэминя, во время бесед с которым критике американской внешней политики уделялось значительное внимание. Однако подход президента СССР, конечно, нельзя сравнить с планами будущих путчистов, для которых подавление антиправительственного движения в Китае в определённой степени стало образцом для собственных действий. Не случайно во время путча в августе 1991 г., став на два дня исполняющим обязанности президента, Г. И. Янаев сразу же согласился принять посла КНР и провёл с ним беседу об укреплении дружеских связей324. После путча Советский Союз был на грани крушения, а отношение новой России к Китаю определялось уже совсем в других обстоятельствах.
диктатурой секретариата». После смерти Л. Троцкого бюрократию как «новый слой» советского общества, «экспроприировавший пролетариат», рассматривали его последователи, в частности Э. Мандель.↩
модернизированная модификация классической восточнодеспотической структуры», в открытой советской печати в связи с очевидностью аналогии с СССР было затруднительно. Обычно она преподносилась в виде рецензий на работы её западных сторонников. Однако она была широко распространена в научном сообществе и её сторонники сразу же стали печатать соответствующие мысли, как только это стало возможным. (См.: Васильев Л. С. Китай на рубеже Ⅲ тысячелетия: конфуцианская традиция или марксизм-маоизм? // Восток.— 1992.— № 5.— С. 64.)↩
Инстанцией» называли ЦК КПСС.↩
социалистического общественного строя», был сознательно «ввинчен» в ташкентскую речь спичрайтерами, одним из которых был он сам (Бовин А. Е. ⅩⅩ век как жизнь… С. 387).↩
Я не понимаю, почему Китай так заботит Кампучия. Эта страна так далеко от Китая. Кроме того, кампучийцы только что слезли с деревьев, что в них ценного?» (Там же, обратный перевод с английского).↩
препятствиями» на пути советско-китайской нормализации. Были ли эти слова действительно сказаны китайским лидером или нет, но результатом стало увольнение двух лидеров антикитайского лобби. В любом случае этот эпизод — интересное свидетельство внутренней борьбы по китайскому вопросу в советском руководстве (интервью с Е. П. Бажановым. 01.08.2004).↩