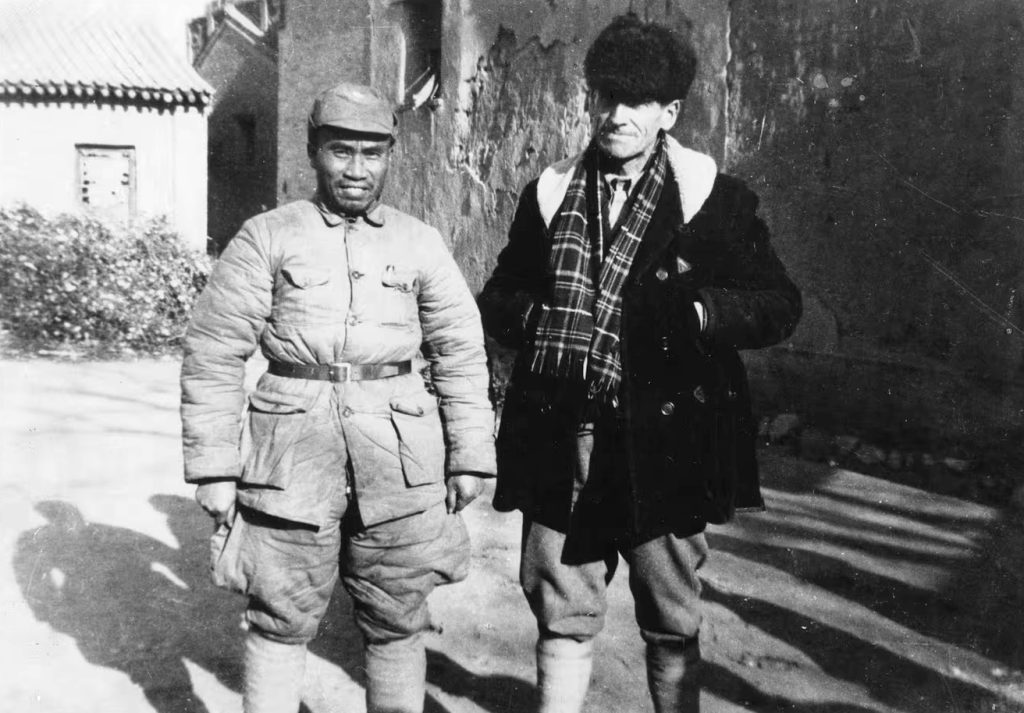В нашей партии была группа товарищей — приверженцев догматизма, которые долгое время отвергали опыт китайской революции, отрицали ту истину, что «марксизм — не догма, а руководство к действию
», и лишь стращали людей отдельными словами и фразами, надёрганными из текста марксистских произведений. Была также и другая группа товарищей — последователей эмпиризма, которые долгое время, цепляясь за свой личный, ограниченный опыт, не понимали важности теории для революционной практики, не видели положения революции в целом. Хотя они и работали усердно, но эта работа велась вслепую. Ошибочные воззрения этих двух групп товарищей, особенно догматические воззрения, нанесли в 1931—1934 годах огромный ущерб китайской революции. При этом догматики, рядясь в марксистскую тогу, ввели в заблуждение очень многих товарищей. Работа товарища Мао Цзэдуна «Относительно практики» была написана для того, чтобы с позиций марксистской теории познания разоблачить субъективистские ошибки сторонников догматизма и эмпиризма — в особенности догматизма в нашей партии. Основной упор в этой работе сделан на разоблачение презирающего практику догматизма — этой разновидности субъективизма; поэтому работа озаглавлена «Относительно практики». Взгляды, развиваемые товарищем Мао Цзэдуном в этой работе, были изложены им в свое время в лекциях, прочитанных в Яньани в Военно-политической академии сопротивления японским захватчикам.
Домарксовский материализм рассматривал вопросы познания в отрыве от общественной природы людей, в отрыве от исторического развития человечества и поэтому не мог понять зависимости познания от общественной практики, то есть зависимости познания от производства и классовой борьбы.
Марксисты прежде всего считают, что производственная деятельность людей является самой основной их практической деятельностью, определяющей всякую другую деятельность. В своём познании люди зависят главным образом от материальной производственной деятельности, в процессе которой они постепенно постигают явления природы, свойства природы, закономерности природы и отношения между человеком и природой; вместе с тем через производственную деятельность они также постепенно в различной степени познают определённые отношения между людьми. Все эти знания не могут быть получены в отрыве от производственной деятельности. В бесклассовом обществе каждый отдельный человек как член данного общества, сотрудничая с остальными членами общества и вступая с ними в определённые производственные отношения, осуществляет производственную деятельность, направленную на разрешение вопросов материальной жизни людей. В различных классовых обществах члены этих обществ, принадлежащие к разным классам, вступая в различных формах в определённые производственные отношения, тоже осуществляют производственную деятельность, направленную на разрешение вопросов материальной жизни людей. Это — основной источник развития человеческого познания.
Общественная практика людей не ограничивается одной лишь производственной деятельностью, а имеет ещё многие другие формы: классовая борьба, политическая жизнь, деятельность в области науки и искусства; словом, общественный человек принимает участие во всех областях практической жизни общества. Поэтому человек в своём познании постигает в разной степени различные отношения между людьми не только в процессе материальной жизни, но и в процессе политической и культурной жизни (тесно связанной с материальной жизнью). Особенно же глубокое влияние на развитие человеческого познания оказывают различные формы классовой борьбы. В классовом обществе каждый человек существует как индивид определённого класса, и нет такой идеологии, на которой бы не лежала классовая печать.
Марксисты считают, что производственная деятельность человеческого общества развивается шаг за шагом от низших ступеней к высшим, поэтому знания людей как в отношении природы, так и в отношении общества также развиваются шаг за шагом от низших ступеней к высшим, то есть от простого к сложному, от одностороннего к многостороннему. В течение весьма длительного исторического периода люди могли лишь односторонне понимать историю общества. Это происходило, с одной стороны, из-за тенденциозного подхода эксплуататорских классов, постоянно извращавших историю общества, а с другой из-за узких масштабов производства, ограничивавших кругозор людей. Только тогда, когда вместе с появлением гигантских производительных сил крупной промышленности появился современный пролетариат, люди смогли достигнуть всестороннего исторического понимания процесса исторического развития общества и превратить свои знания об обществе в науку. Эта наука и есть марксизм.
Марксисты считают, что только общественная практика людей может быть критерием истинности знаний человека о внешнем мире. Ибо фактически, только достигая в процессе общественной практики (в процессе материального производства, классовой борьбы, научного эксперимента) ожидаемых ими результатов, люди получают подтверждение истинности своих знаний. Если люди стремятся добиться успеха в работе, то есть получить ожидаемые результаты, то им непременно следует привести свои идеи в соответствие с закономерностями объективного внешнего мира; в противном случае они потерпят поражение в практике. Потерпев поражение, люди извлекают уроки из самого поражения, изменяют свои идеи и приводят их в соответствие с закономерностями внешнего мира, и тогда они могут обратить поражение в победу; именно эту истину и выражают поговорки: «Поражение — мать успеха» и «Каждая неудача делает нас умнее». Теория познания диалектического материализма ставит практику на первое место, считая, что человеческое познание ни в малейшей степени не может отрываться от практики, отвергая все ошибочные теории, отрицающие важность практики и отрывающие познание от практики. Ленин говорил: «Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности
». Марксистская философия диалектический материализм — имеет две наиболее яркие особенности: первая особенность это её классовый характер, открытое признание того, что диалектический материализм служит пролетариату; вторая особенность — это её практический характер, подчёркивание зависимости теории от практики, подчёркивание того, что основой теории является практика и что теория, в свою очередь, служит практике. Истинность знания или теории определяется не субъективной оценкой, а результатами объективной общественной практики. Критерием истины может быть лишь общественная практика. Точка зрения практики — это первая и основная точка зрения теории познания диалектического материализма.
Но каким же образом из практики возникает человеческое познание и как оно, в свою очередь, служит практике? Чтобы понять это, достаточно ознакомиться с процессом развития познания.
Дело в том, что в процессе практической деятельности люди видят сначала лишь внешнюю сторону различных вещей, явлений, представленных в этом процессе, видят отдельные стороны вещей, явлений, видят внешнюю связь между отдельными явлениями. Например, люди, приехавшие в Яньань для обследования, в первые день-два видели в Яньани местность, улицы, дома, соприкасались со многими людьми, присутствовали на приёмах, вечерах и митингах, слышали различные выступления, читали различные документы; всё это — внешние стороны явлений, отдельные стороны явлений и внешняя связь этих явлений. Эта ступень процесса познания называется ступенью чувственного восприятия, то есть ступенью ощущений и впечатлений. Эти различные явления, встреченные в Яньани, воздействуя на органы чувств господ из обследовательской группы, вызвали у них определённые ощущения, в их сознании возник ряд впечатлений и установилась примерная, внешняя связь между этими впечатлениями — такова первая ступень познания. На этой ступени люди ещё не могут выработать глубокие понятия и сделать логические выводы.
Продолжение общественной практики приводит к многократному повторению явлений, которые вызывают у людей ощущения и впечатления. И тогда в человеческом сознании происходит скачок в процессе познания — возникают понятия. Понятие отражает уже не внешние стороны вещей, явлений, не отдельные их стороны, не их внешнюю связь; оно улавливает сущность явления, явление в целом, внутреннюю связь явлений. Между понятием и ощущением существует не только количественное, но и качественное различие. Дальнейшее развитие в этом направлении, применение методов суждения и умозаключения может привести к логическим выводам. Когда в романе «Саньго яньи» говорится: «Только нахмуришь брови — в голове рождается план
» или когда мы обычно говорим: «Дайте мне подумать» — это значит, что человек мысленно оперирует понятиями для того, чтобы выносить суждения и делать умозаключения. Это вторая ступень познания. Господа из приехавшей к нам обследовательской группы, собрав различные материалы и «подумав» над ними, смогли бы вынести такое суждение: «Проводимая Коммунистической партией политика единого антияпонского национального фронта является последовательной, искренней и честной». Если они так же честно стоят за единство ради национального спасения, то, вынеся такое суждение, они могут пойти дальше и сделать следующий вывод: «Единый антияпонский национальный фронт может быть успешно создан». В общем процессе познания людьми какого-либо явления эта ступень понятий, суждений и умозаключений является ещё более важной ступенью, ступенью рационального познания. Подлинная задача познания заключается в том, чтобы от ощущения подняться до мышления, подняться до постепенного уяснения внутренних противоречий объективно существующих вещей, явлений, до уяснения их закономерностей, уяснения внутренней связи между различными процессами, то есть достигнуть логического познания. Повторяем: логическое познание отличается от чувственного познания тем, что чувственное познание охватывает отдельные стороны вещей, явлений, внешние их стороны, внешнюю связь явлений, а логическое познание делает огромный шаг вперёд, охватывая явление в целом, его сущность и внутреннюю связь явлений, поднимается до раскрытия внутренних противоречий окружающего мира и тем самым может постигнуть развитие окружающего мира во всей его целостности, с его всеобщими внутренними связями.
Подобная диалектико-материалистическая теория процесса развития познания, основанная на практике и на движении от простого к сложному, до марксизма никем последовательно не выдвигалась. Марксистский материализм впервые правильно разрешил этот вопрос, материалистически и диалектически указал на движение познания по линии всё большего его углубления, указал на поступательное движение познания общественных людей в их сложной и постоянно повторяющейся практике производства и классовой борьбы движение от чувственного познания к логическому. Ленин говорил: «Абстракция материи, закона природы, абстракция стоимости и т. д., одним словом все научные (правильные, серьёзные, не вздорные) абстракции отражают природу глубже, вернее, полнее
». Марксизм-ленинизм считает, что отличительные черты двух ступеней процесса познания состоят в том, что на низшей ступени познание выступает как чувственное познание, а на высшей ступени оно выступает как логическое познание, однако обе эти ступени представляют собой ступени единого процесса познания. Чувственное и рациональное различны по своему характеру, однако они не оторваны друг от друга, а объединяются на базе практики. Наша практика свидетельствует о том, что чувственно воспринимаемые вещи, явления не могут быть нами немедленно поняты и что только понятые явления могут быть ощущаемы ещё более глубоко. Ощущение может разрешить лишь вопрос о внешних сторонах явлений, вопрос же о сущности решается только теоретическим мышлением. Решение этих вопросов ни в малейшей степени не может быть оторвано от практики. Человек не может познать какое бы то ни было явление без соприкосновения с ним, то есть если его собственная жизнь (практика) не протекает в условиях этого явления. Нельзя было заранее познать закономерности капиталистического общества, находясь ещё в феодальном обществе, ибо тогда ещё не появился капитализм и не было соответствующей практики. Марксизм мог явиться продуктом лишь капиталистического общества. Маркс не мог в эпоху домонополистического капитализма заранее конкретно познать некоторые своеобразные закономерности эпохи империализма, поскольку империализм как последняя стадия капитализма ещё не появился и ещё не было соответствующей практики; только Ленин и Сталин смогли взять на себя эту задачу. Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин смогли создать свою теорию не только благодаря своей гениальности, но и главным образом потому, что они принимали личное участие в имевшей в то время место практике классовой борьбы и научного эксперимента; без этого последнего условия никакая гениальность не могла бы привести к успеху. Выражение «сюцай, не переступая порога своего дома, может знать о всех делах Поднебесной» было пустой фразой в древние времена, когда техника была неразвита, а в наш век развитой техники, хотя это и осуществимо, но подлинным знанием, приобретённым личным опытом, обладают только люди, связанные с практикой в «Поднебесной»; эти люди в своей практике приобретают «знание», которое через посредство письменности и техники попадает в руки «сюцая» и дает ему возможность косвенно узнать «о всех делах Поднебесной». Для непосредственного познания какого-либо явления или явлений необходимо личное участие в практической борьбе, имеющей целью изменение действительности, изменение какого-либо явления или явлений, ибо только личное участие в такой практической борьбе позволяет соприкоснуться с внешней стороной какого-либо явления или явлений и только личное участие в такой практической борьбе позволяет вскрыть сущность какого-либо явления или явлений и понять их. Таков путь познания, по которому в действительности идёт любой человек; дело лишь в том, что некоторые умышленно искажают истину и утверждают обратное. В самой смешной роли подвизаются так называемые «всезнайки», которые, нахватавшись случайных, обрывочных знаний, возводят себя в ранг «первого лица Поднебесной», что свидетельствует лишь об их непомерном самомнении. Знания — это наука, и здесь неуместно ни малейшее лицемерие или зазнайство, здесь решительно требуется как раз обратное — честность и скромность. Если хочешь получить знания, то участвуй в практике, изменяющей действительность. Если хочешь узнать вкус груши, то тебе нужно её изменить — пожевать её. Если хочешь узнать строение и свойства атома, то тебе нужно провести физические и химические опыты, изменить состояние атома. Если хочешь знать теорию и методы революции, то тебе нужно принять участие в революции. Все подлинные знания берут своё начало из непосредственного опыта. Однако человек не может непосредственно испытать всё на свете, и фактически большая часть наших знаний — это продукт косвенного опыта, это знания, доставшиеся нам от прошлых веков, и знания, приобретённые людьми в иных странах. Эти знания являются продуктом непосредственного опыта людей, живших ранее, или чужого непосредственного опыта. Если во время непосредственного опыта наших предков или чужеземцев эти знания отвечали тому условию, о котором говорил Ленин, то есть были результатом научной абстракции и являлись научным отражением объективно существовавших явлений, то эти знания надёжны; в противном случае они ненадёжны. Поэтому знания человека складываются из двух частей — данных непосредственного опыта и данных косвенного опыта. Вместе с тем то, что для меня является косвенным опытом, для других остаётся непосредственным опытом. Следовательно, если взять знания в целом, то никакие знания не могут быть оторваны от непосредственного опыта. Источник всех знаний лежит в ощущениях, получаемых органами чувств человека из объективно существующего внешнего мира; кто отрицает ощущение, отрицает непосредственный опыт, отрицает личное участие в практике, изменяющей действительность, тот не является материалистом. Вот почему так смешны «всезнайки». Старинная китайская пословица гласит: «Не забравшись в логовище тигра, не поймаешь тигрёнка». Эта пословица является истиной для человеческой практики и в равной мере является истиной для теории познания. Познание, оторванное от практики, немыслимо.
Для того чтобы уяснить диалектико-материалистическое движение познания, возникающее на основе практики изменения действительности, движение познания по линии постепенного углубления, приведём ещё следующие конкретные примеры.
В начальный период своей практики — период разрушения машин и стихийной борьбы — пролетариат в своём познании капиталистического общества находился лишь на ступени чувственного познания и познавал лишь отдельные стороны и внешнюю связь различных явлений капитализма. В то время пролетариат ещё являлся так называемым «классом в себе». Однако, когда наступил второй период практики пролетариата — период сознательной и организованной экономической и политической борьбы, когда благодаря практике, благодаря многообразному опыту, полученному в ходе длительной борьбы и научно обобщённому Марксом и Энгельсом, родилась марксистская теория, использованная для просвещения пролетариата и, таким образом, научившая пролетариат пониманию сущности капиталистического общества, пониманию отношений эксплуатации, возникающих между общественными классами, пониманию исторических задач пролетариата, тогда пролетариат стал «классом для себя».
Такой же путь прошло и познание китайским народом империализма. Первая ступень была ступенью поверхностного чувственного познания, выражавшегося в борьбе против иностранцев вообще во время тайпинского, ихэтуаньского и других движений. Только вторая ступень явилась ступенью рационального познания, когда китайский народ разглядел различные внутренние и внешние противоречия империализма, когда он разглядел сущность угнетения и эксплуатации широких народных масс Китая империализмом в союзе с китайскими компрадорами и феодалами; это познание началось примерно в период движения 4 мая 1919 года.
Обратимся теперь к войне. Если бы войной руководили люди без военного опыта, то на начальной ступени они не могли бы понять глубокие законы руководства данной конкретной войной (например, нашей Аграрной революционной войной на протяжении прошедших десяти лет). На начальной ступени они приобрели бы лишь опыт личного участия во многих сражениях, значительное число которых кончалось бы для них поражением. Тем не менее этот опыт (опыт побед и особенно поражений) дал бы им возможность понять моменты внутреннего порядка, пронизывающие всю войну в целом, то есть закономерности данной конкретной войны, понять стратегию и тактику и тем самым дал бы им возможность уверенно руководить войной. Если бы в это время поручить руководство войной человеку, не имеющему опыта, то он, в свою очередь, смог бы понять действительные закономерности войны, лишь потерпев ряд поражений (то есть приобретя опыт).
Часто приходится слышать, как тот или иной товарищ, не решаясь взяться за предложенную ему работу, заявляет: я не уверен, что справлюсь с этой работой. А почему он не уверен? Потому, что не имеет стройного представления о характере и условиях этой работы: либо никогда не сталкивался с подобной работой, либо сталкивался с ней редко; поэтому о знании им закономерностей этой работы не может быть и речи. После же того как ему детально проанализируют состояние и условия работы, он начинает чувствовать себя более уверенно и изъявляет согласие взяться за неё. Если такие люди проведут на данной работе некоторое время, приобретут в ней опыт и к тому же будут беспристрастно вникать в обстановку, а не смотреть на вещи субъективно, односторонне и поверхностно, то они смогут сами сделать вывод о том, как следует вести работу, и станут работать гораздо смелее. Неизбежный провал ожидает только тех людей, которые смотрят на вещи субъективно, односторонне и поверхностно, которые, прибыв на новое место, не интересуясь обстановкой, не вникая в дело в целом (в историю дела и в его нынешнее состояние) и не добравшись до существа дела (характера данного дела и его внутренней связи с другими делами), сразу начинают самонадеянно распоряжаться и издавать приказы.
Следовательно, первым шагом процесса познания является первое соприкосновение с явлениями внешнего мира — ступень ощущений. Вторым шагом является обобщение данных, полученных из ощущений, упорядочение их и переработка ступень понятий, суждений и умозаключений. Только при наличии весьма обильных (а не разрозненных и неполных) данных, полученных из ощущений, и только в том случае, если они соответствуют действительности (а не являются результатом обмана чувств), можно на основе этих данных выработать правильные понятия и прийти к правильному логическому выводу.
Здесь имеется два важных момента, которые необходимо особо подчеркнуть. О первом уже говорилось выше, но здесь придется повторить ещё раз,— это вопрос о зависимости рационального познания от чувственного. Кто считает, что рациональное познание может происходить не из чувственного познания, тот идеалист. В истории философии существовал так называемый рационализм, признававший лишь реальность разума, отрицавший реальность опыта, считавший, что надёжен лишь разум, а опыт, даваемый чувственным восприятием, ненадёжен; ошибка этого направления заключается в том, что оно ставит факты на голову. Надёжность данных рационального познания как раз и обеспечивается тем, что они имеют своим источником данные чувственного восприятия; в противном случае эти данные рационального познания стали бы рекой без истоков, деревом без корней, были бы чем-то ненадёжным, возникающим лишь субъективно. С точки зрения последовательности процесса познания чувственный опыт является первичным, и мы подчёркиваем значение общественной практики в процессе познания, ибо только общественная практика человека может положить начало возникновению у него познания, получению им чувственного опыта из объективно существующего внешнего мира. Если человек закрыл глаза, заткнул уши и совершенно отгородился от объективно существующего внешнего мира, то для него не может быть и речи о познании. Познание начинается с опыта — это и есть материализм теории познания.
Второй момент необходимость углубления познания, необходимость перехода от ступени чувственного познания к ступени рационального познания — это и есть диалектика теории познания. Считать, что познание может остановиться на низшей ступени ступени чувственного познания, считать, что надёжно лишь чувственное познание, а рациональное познание ненадёжно, это значит повторять известные из истории ошибки эмпиризма. Ошибки этой теории заключаются в непонимании того, что хотя данные чувственного восприятия и являются отражением неких реальностей объективно существующего внешнего мира (я здесь не буду касаться идеалистического эмпиризма, который сводит опыт к так называемому самосозерцанию), однако эти данные односторонни и поверхностны, а такое отражение является неполным, оно не отражает сущности вещей. Для полного отражения вещей в целом, отражения их сущности, их внутренних закономерностей необходимо создать систему понятий и теоретических положений, подвергнув богатые данные чувственного восприятия переработке путём мышления, заключающейся в отсеве шелухи и отборе зёрен, удалении ложного и сохранении истинного, в переходе от одной стороны явлений к другой, от внешнего к внутреннему необходим скачок от чувственного познания к рациональному познанию. От этой переработки наши знания не станут менее полными, менее надёжными. Напротив, всё то, что в процессе познания на базе практики подверглось научной переработке, как говорит Ленин, глубже, вернее, полнее отражает объективный мир. Именно этого не понимают узколобые деляги: они преклоняются перед опытом и игнорируют теорию, вследствие чего не могут охватить объективный процесс в целом, им недостаёт ясности ориентировки, они лишены широкой перспективы, они упиваются своими случайными успехами и поверхностными представлениями. Если бы эти люди руководили революцией, они завели бы её в тупик.
Рациональное познание зависит от чувственного познания, а чувственное познание должно развиваться в рациональное познание. Такова теория познания диалектического материализма. Рационализм и эмпиризм в философии не понимают исторического, или диалектического, характера познания, и, хотя каждое из этих направлений содержит одну сторону истины (речь идёт о материалистических, а не об идеалистических рационализме и эмпиризме), всё же если рассматривать их с точки зрения теории познания в целом, то окажется, что оба они являются ошибочными. Диалектико-материалистическое движение познания от чувственного к рациональному происходит как в процессе познания малого (например, познание какого-либо предмета или какой-либо работы), так и в процессе познания большого (например, познание того или иного общества, той или иной революции).
Однако движение познания на этом ещё не завершается. Если бы диалектико-материалистическое движение познания останавливалось лишь на рациональном познании, то была бы исчерпана только половина проблемы; более того, с точки зрения марксистской философии, была бы исчерпана даже не самая важная половина. Марксистская философия считает, что главное заключается не в том, чтобы, поняв закономерности объективного мира, быть в состоянии объяснить мир, а в том, чтобы использовать знание объективных закономерностей для активного преобразования мира. Марксизм признаёт важность теории, и это нашло своё полное выражение в следующем ленинском положении: «Без революционной теории не может быть и революционного движения
». Но марксизм придаёт серьёзное значение теории именно потому, и только потому, что она может направлять практическую деятельность. Если, обретя правильную теорию, ограничиваться лишь пустыми разговорами о ней, держать её под спудом и не осуществлять на практике, то от этой теории, как бы она ни была хороша, толку не будет. Познание начинается с практики; обретя через практику теоретические знания, нужно вновь вернуться к практике. Активная роль познания выражается не только в активном скачке от чувственного познания к рациональному познанию, но, что ещё важнее, она должна выражаться в скачке от рационального познания к революционной практике. Познание, овладевшее закономерностями мира, должно быть вновь направлено на практику преобразования мира, применено в практике производства, в практике революционной классовой и революционной национальной борьбы, а также в практике научного эксперимента. Таков процесс проверки теории и развития теории — продолжение единого процесса познания. Вопрос о том, соответствует ли теоретическое положение объективной истине, полностью не решается и не может быть полностью решён в движении познания от чувственного познания к рациональному познанию, о котором мы говорили выше. Для полного решения этого вопроса необходимо от рационального познания вновь вернуться к общественной практике, применить теорию на практике и проверить, может ли она привести к намеченной цели. Многие естественно-научные теории были признаны истинными не только потому, что эти теории были созданы естествоиспытателями, но и потому, что они нашли своё подтверждение в последующей научной практике. Точно так же марксизм-ленинизм признаётся истиной не только потому, что это учение было научно разработано Марксом, Энгельсом, Лениным и Сталиным, но и потому, что оно подтверждено последующей практикой революционной классовой и революционной национальной борьбы. Диалектический материализм является всеобщей истиной потому, что никто в своей практике не может перешагнуть его рамки. История человеческого познания показывает, что истинность многих теорий была недостаточно полной, но в результате проверки на практике их неполнота была устранена. Многие теории были ошибочными, но в результате проверки на практике их ошибки были исправлены. Вот почему практика является критерием истины, вот почему «точка зрения жизни, практики должна быть первой и основной точкой зрения теории познания
». Замечательно сказано об этом у Сталина: «…теория становится беспредметной, если она не связывается с революционной практикой, точно так же, как и практика становится слепой, если она не освещает себе дорогу революционной теорией
».
Завершается ли этим движение познания? Мы отвечаем: завершается и вместе с тем не завершается. Общественные люди, включившиеся в практику изменения определённого объективного процесса на определённой ступени его развития (будь то практика изменения какого-либо процесса, происходящего в природе, или практика изменения какого-либо общественного процесса), под влиянием отражения объективного процесса и своей субъективной активности получают возможность перейти от чувственного познания к рациональному и создавать идеи, теории, планы или проекты, в общем соответствующие закономерностям этого объективного процесса; и если при последующем применении этих идей, теорий, планов или проектов в практике изменения того же объективного процесса удаётся добиться намеченной цели, то есть если в практике этого процесса удается превратить заранее разработанные идеи, теории, планы и проекты в действительность или в общих чертах добиться их осуществления, то движение познания этого конкретного процесса можно считать завершённым. Например, в процессе изменения природы осуществление плана какого-либо строительства, подтверждение какой-либо научной гипотезы, создание какого-либо механизма, сбор урожая какой-либо сельскохозяйственной культуры, или в процессе изменения общества — успех какой-либо забастовки, победа в какой-либо войне, выполнение какого-либо плана в области просвещения — всё это считается достижением намеченной цели. Однако, вообще говоря, как в практике изменения природы, так и в практике изменения общества редко бывает, чтобы первоначально выработанные людьми идеи, теории, планы и проекты претворялись в жизнь без малейших изменений. Это происходит потому, что люди, осуществляющие изменение действительности, часто скованы многочисленными ограничениями: они часто связаны не только научными и техническими условиями, но и развитием самого объективного процесса и степенью его проявления (различные стороны и сущность объективного процесса ещё не полностью вскрыты). При таком положении, вследствие выявления в практике непредвиденных ранее обстоятельств, нередко бывает, что идеи, теории, планы и проекты подвергаются частичным изменениям, а бывают и случаи, когда они изменяются полностью. Это значит, что бывают случаи, когда первоначально выработанные идеи, теории, планы и проекты частично или полностью не соответствуют реальной действительности, частично или полностью ошибочны. В ряде случаев только после многократных неудач удаётся устранить заблуждение, удаётся достичь соответствия с закономерностями объективного процесса и таким образом удаётся превратить субъективное в объективное, то есть на практике добиться ожидаемых результатов. Во всяком случае, с наступлением этого момента движение познания людьми определённого объективного процесса на определённой ступени его развития можно считать завершённым.
Однако если рассматривать процесс в его развитии, то движение человеческого познания на этом не завершается. Любой процесс, происходит ли он в природе или в обществе, вследствие внутренних противоречий и борьбы идёт вперёд и развивается. И процесс человеческого познания также должен, следуя за ним, идти вперёд и развиваться. Если говорить об общественном движении, то подлинные революционные руководители должны не только уметь исправлять ошибки, обнаруженные в своих идеях, теориях, планах и проектах, как об этом говорилось выше, но и при переходе определённого объективного процесса с одной ступени развития на другую должны уметь вместе со всеми участниками революции следовать в своём субъективном познании за этим переходом, то есть добиваться того, чтобы выдвигаемые новые революционные задачи и новые планы работы соответствовали новым изменениям в обстановке. В революционный период обстановка изменяется очень быстро, и если познание революционеров не будет поспевать за этими изменениями, то они не смогут привести революцию к победе.
Однако часто бывает, что идеи отстают от действительности; это происходит потому, что человеческое познание подвергается ограничениям в силу многих общественных условий. Мы боремся против консерваторов в наших революционных рядах, так как их идеи не идут в ногу с изменяющейся объективной обстановкой, что проявлялось в истории в виде правого оппортунизма. Эти люди не видят того, что борьба противоречий уже продвинула объективный процесс вперёд, а их познание всё ещё стоит на прежней ступени. Эта особенность свойственна идеям всех консерваторов. Их идеи оторваны от общественной практики, они не могут возглавлять движение общества и выполнять роль его проводника, они способны лишь плестись в хвосте за ним, роптать на то, что оно идёт вперёд слишком быстро, и пытаться потащить его назад, повернуть колесо истории вспять.
Мы боремся и против «левого» фразёрства. Идеи его представителей забегают вперёд, перескакивая определённые ступени развития объективного процесса; одни из носителей этих идей принимают иллюзии за истины, другие насильно пытаются осуществить в настоящее время идеалы, которые осуществимы лишь в будущем; их идеи, оторванные от современной практики большинства людей, оторванные от современной действительности, в практической деятельности проявляются в авантюризме.
Для идеализма и механистического материализма, оппортунизма и авантюризма характерны разрыв между субъективным и объективным, отрыв познания от практики. Марксистско-ленинская теория познания, отличительным признаком которой является научная общественная практика, не может не вести решительной борьбы против этих ошибочных воззрений. Марксисты признают, что в абсолютном всеобщем процессе развития вселенной развитие отдельных конкретных процессов является относительным. Поэтому из бесконечного потока абсолютной истины познание людьми отдельных конкретных процессов на определённых этапах их развития черпает лишь относительные истины. Из суммы бесчисленных относительных истин складывается абсолютная истина. Развитие объективного процесса — это развитие, полное противоречий и борьбы. Развитие человеческого познания — это также развитие, полное противоречий и борьбы. Всякое диалектическое движение в объективном мире может раньше или позже найти своё отражение в человеческом познании. Процесс возникновения, развития и гибели в общественной практике является бесконечным, и так же бесконечен процесс возникновения, развития и гибели в человеческом познании. Поскольку практика, основанная на определённых идеях, теориях, планах и проектах и направленная на изменение объективной действительности, идёт всё вперёд и вперёд, то и человеческое познание объективной действительности также становится всё глубже и глубже. Процесс изменения объективно существующего реального мира вечен и не имеет границ, и так же вечно и не имеет границ познание людьми истины в процессе практики. Марксизм-ленинизм отнюдь не кладёт конца раскрытию истины, а, напротив, непрерывно открывает пути познания истины в процессе практики. Наш вывод: мы за конкретное историческое единство субъективного и объективного, теории и практики, знания и действия; мы против всех «левых» и правых ошибочных воззрений, оторванных от конкретной истории.
В наступившую ныне эпоху общественного развития ответственность за правильное познание и преобразование мира возложена историей на плечи пролетариата и его партии. Как в Китае, так и во всём мире процесс практики преобразования мира процесс, ход которого предначертан на основании научного познания,— достиг исторического момента огромной важности, небывалого во всей истории человечества момента, когда происходит полное свержение тьмы как в Китае, так и во всём мире и превращение этого мира в ещё невиданный светлый мир. Борьба пролетариата и революционных народных масс за преобразование мира включает осуществление следующих задач: преобразование объективного мира, а также преобразование своего субъективного мира преобразование своих познавательных способностей, преобразование отношения субъективного мира к объективному. На одной части земного шара в Советском Союзе — люди уже осуществляют эти преобразования и в настоящее время ускоряют этот процесс преобразований. Китайский народ и народы всего мира также проходят в настоящее время или пройдут в будущем процесс этих преобразований. Когда речь идёт о преобразуемом объективном мире, в него включаются и все противники преобразования; они должны сначала пройти этап преобразования, основанного на принуждении, после чего они смогут вступить в этап перевоспитания, основанного на сознательности. Время, когда всё человечество подойдёт к сознательному преобразованию себя и мира, и будет эпохой коммунизма во всём мире.
Через практику открывать истины и через практику же подтверждать истины и развивать истины. От чувственного познания активно переходить к рациональному познанию и, далее, от рационального познания к активному руководству революционной практикой для преобразования субъективного и объективного мира. Практика познание, вновь практика — и вновь познание,— эта форма в своём циклическом повторении бесконечна, причём содержание циклов практики и познания с каждым разом поднимается на более высокую ступень. Такова в целом теория познания диалектического материализма, таков взгляд диалектического материализма на единство знания и действия.
Примечания