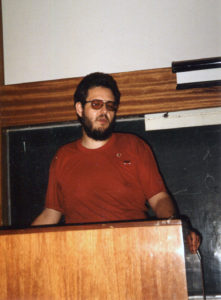Программная речь, произнесённая на конференции «Сообщества, противостоящие капиталистической глобализации», Калифорнийский университет в Санта-Барбаре, 15 апреля 2000 г.
Глобализация — что это?
В этой презентации я буду исходить из определения глобализации как недавнего резкого (и качественного) увеличения масштабов мировой торговли и других процессов международного обмена, таких как потоки валюты, движение капиталов, обмен технологиями и информацией, перемещение людей — всё это в контексте всё более интегрированной мировой экономики, когда границы и суверенитет национальных государств становятся всё более эфемерными. Глобализация — явление, качественно отличающееся от традиционной международной торговли товарами и услугами. Это, я считаю, более или менее традиционное определение глобализации, принятое буржуазными учёными, такими как, например, Майкл Д. Интрилигейтор, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
С точки зрения бывшего СССР чрезвычайно важно, что одним из ключевых факторов, способствовавших возникновению глобализации, помимо революции в информационных технологиях, международных соглашений, либерализирующих мировую торговлю и т. д., стал распад так называемого «социалистического лагеря», то есть СССР и его сателлитов. Тот же профессор Интрилигейтор называет «достижение глобального консенсуса по отношению к рыночной экономике и системе свободной торговли
», то есть принятие капитализма западного типа в качестве модели практически всеми странами мира, как одну из важнейших причин глобализации. Это не означает, как мы вскоре увидим, что система «реального социализма», когда она существовала, представляла какую-либо реальную альтернативу современному капитализму и империализму; это всего лишь означает, что она была державой-соперником империалистического мира, в котором доминировали США, возможно, не менее заинтересованной в продвижении глобализации, но глобализации на своих собственных условиях. «Социалистический лагерь» не вписывался в модели интеграции, происходящие в традиционном капиталистическом мире, где доминирует Запад; для того, чтобы глобализация в современном смысле слова начала происходить, этот лагерь должен был исчезнуть. Таким образом, 1991 год знаменует собой не только начало воздействия глобализации на Россию и другие бывшие «социалистические» страны — по моему мнению, он также знаменует собой начало (и частичную причину) самой глобализации.
Необходимо отметить некоторые важные вещи, касающиеся глобализации. В мире, где доминирует западный империализм, прежде всего американский империализм, интеграция экономических, социальных, политических и культурных процессов в различных странах происходит на условиях западного империализма, глобализация фактически означает принятие — иногда добровольное, во многих случаях принудительное — моделей западного капитализма всеми другими странами плюс перестройка мирового рынка и политической конъюнктуры на мировой арене в интересах западного капитала. Другими словами, глобализация, как мы её видим, равна капитализации, вестернизации, американизации. Это процесс с выраженным центром (США) и несколькими концентрическими периферийными кругами, включая европейские страны и Японию (часто жалующуюся на политические и культурные последствия глобализации), полуимпериалистические страны «Второго мира» (бывший СССР и сателлиты плюс некоторые другие) и Третий мир.
Во-вторых, несмотря на резкие заявления как сторонников статус-кво, так и многих потенциальных «антиимпериалистов», прогрессивная или иная роль (или роли) глобализации является чрезвычайно сложным вопросом. Как процесс, происходящий по правилам, установленным в ряде наиболее развитых империалистических стран и в интересах последних, при этом объектом внимания оказывается Третий мир, это реакционный процесс, усиливающий доминирование Америки и Запада над остальным миром,— по сути, новое и более изощрённое воплощение неоколониализма. Лидер сапатистов субкоманданте Маркос назвал глобализацию «Четвёртой мировой войной» (Третьей, по его словам, была «холодная война», в которой победил Запад). Его воздействие на страны третьего мира почти полностью разрушительно — для их экономики, их экологии, уровня жизни их народов, их политического суверенитета, их самобытных культур. Весьма красноречивым примером являются различные международные соглашения о «свободной торговле», такие как Соглашение по сельскому хозяйству (AоA), ВТО и более раннее ГАТТ, вынуждающие страны третьего мира снимать защитные тарифы на американские продукты питания, в первую очередь зерно, и вынуждающие их переориентировать своё сельское хозяйство на выращивание и увеличение количества специальных товарных культур, которые будут продаваться в странах Первого мира, а не на еду для собственного народа. И ведущие политики, и партизаны, ведущие вооружённую борьбу в странах Третьего мира, выдвигающие антиглобалистские лозунги, совершенно правы.
Однако всё не так просто. Не все протесты против глобализации, высказываемые во втором и особенно в первом мире, являются подлинными антиимпериалистическими протестами. Многие из них окрашены реакционным национализмом, шовинизмом и фашизмом. Возьмите марши против ВТО в Сиэтле в декабре прошлого года с лозунгами «Сначала люди, а не Китай» или большую часть антинатовского и антизападного помешательства в России во время взрывов в Косово. Глобализация, безусловно, имеет некоторые сопутствующие положительные эффекты, такие как облегчение распространения информации, в том числе диссидентской — популярный лозунг среди левых в России сейчас звучит так: «Интернет — оружие пролетариата» и т. д. Будучи полуимпериалистической страной, не принадлежащей ни к «немногим избранным» «развитых» западных стран, ни к эксплуатируемому Третьему миру, страна с уникальной историей и структурой социальных противоречий, которых нет больше нигде в мире, Россия может оказаться особенно плодотворной для исследования зол и благ глобализации с антиимпериалистической точки зрения.
Россия Ельцина (1991—1999): восстановление капитализма западного образца в контексте глобализации
1991: Никакой реставрации капитализма в строгом смысле слова
Следует отметить два важных момента, заблуждения относительно которых распространены как внутри России, так и на Западе. Первый из них может быть тривиальным, но всё же имеет огромное значение. Общество, на смену которому пришла Россия Бориса Ельцина и другие новые независимые государства бывшего Советского Союза, по всем стандартам не было социалистическим. Линия разлома в 1991 году прошла не между двумя, если использовать марксистскую терминологию, «социально-экономическими формациями» (социализмом и капитализмом); хотя произошедшее тогда, безусловно, было реакционным, это не было контрреволюцией в строгом смысле этого слова. Скорее, это была серия очень далеко идущих и глубоких структурных изменений внутри определённого типа общества, затрагивающих каждую его сферу: экономику, классовые отношения, сферу социальных ценностей, культуру, экологию, национальный вопрос, гендерные проблемы и т. д., которые трансформировали их все и в конечном итоге создали совершенно иную социальную структуру, не меняя, однако, природы общества. Ситуация 1991 года определённо не была тем, что Луи Альтюссер назвал «разрывным единством». Исторические параллели, где лицо общества радикально трансформируется и где происходят колоссальные изменения во благо или во зло народа, не затрагивая фундаментальную классовую природу общества, могли бы включать в себя гитлеровскую Германию — конечно, далёкую от буржуазно-демократической Веймарской республики, но по существу всё то же современное западное капиталистическое общество — и Иран после исламской революции.
Точная природа послесталинского и доперестроечного Советского Союза является предметом споров как в академических кругах, так и среди различных левых политических течений. По сути, всё сводится к вопросу, можно ли брежневскую империю классифицировать как капиталистическую страну (с оговорками или без них) или она представляла новый, особый тип общества, несоциалистический и некапиталистический. Последнюю точку зрения поддерживает, например, современный российский ученый-постмарксист Александр Тарасов, утверждающий, что «реальный социализм» был отдельной социально-экономической системой, которую он называет «суперэтатизмом», системой, сосуществующей с капитализмом с рамках одного и того же способа производства — промышленного. С несколько иной — и парадоксальной — точки зрения философ Александр Зиновьев говорит, что брежневское общество, настоящее советское общество 60‑х и 70‑х годов, представляло собой не что иное, как… коммунизм, «коммунизм как реальность», как он его называл, весьма последовательный, замкнутый в себе и самодостаточный тип социально-политической структуры. Другого коммунизма, кроме этого, не может быть, утверждает Зиновьев. Он даёт очень точное и резкое социологическое описание советского «коммунизма» в книге 80‑х годов под названием «Коммунизм как реальность». Зиновьев отрицает реальность и жизнеспособность коммунизма и социализма в традиционном марксистском смысле этого слова, и общий контекст его работ не оставляет сомнений в том, что он использовал термин «коммунизм» как — несколько ироничный — ярлык для того, что, по его мнению, было обществом, фундаментально отличным от капитализма, но вряд ли менее репрессивным и реакционным.
Однако со своей стороны я согласен с определением послесталинского Советского Союза как подлинно капиталистического общества. Существует огромное количество литературы, поддерживающей эту точку зрения, как академической, так и неакадемической, и это также официальная точка зрения направления, которое я считаю наиболее передовым развитием марксизма на сегодняшний день — марксизма-ленинизма-маоизма. Рассуждения в пользу этой точки зрения совершенно выходят за рамки настоящего изложения, поэтому я ограничусь тем, что скажу, что это был капитализм особого рода: государственно-капиталистическое общество и социал-империалистическая держава. Государственно-капиталистическое, поскольку государство, являясь частной собственностью партноменклатуры и фактически неконтролируемым массами, было коллективным капиталистом (хотя частное предпринимательство в форме «теневого», криминального капитала тоже играло существенную роль), эксплуатирующим трудящиеся массы. Социал-империалистическое, социалистическое на словах и империалистическое на деле, поскольку Империя использовала риторику марксизма, социализма, борьбы за мир и поддержку освободительной борьбы угнетённых народов, с одной стороны, но боролась с американским империализм ради мирового господства, принимая обычные империалистические правила игры, имела множество сателлитов и зависимых государств и время от времени прибегала к вооружённой агрессии для подчинения наций, находящихся в его орбите, стремящихся добиться национальной независимости (Чехословакия, 1968) или даже для обуздания подлинно революционной борьбы (Афганистан, 1979 год, где одним из главных врагов советских агрессоров была революционная маоистская партия, Организация освобождения Афганистана).
Капиталистическое и империалистическое особого рода, с оговорками — но тем не менее именно капиталистическое и империалистическое. Ещё в 1964 году Мао Цзэдун сказал: «Сейчас в Советском Союзе диктатура буржуазии, диктатура крупной буржуазии, немецко-фашистская диктатура, диктатура гитлеровского типа. Это шайка бандитов, которые хуже, чем де Голль
». В начале 70‑х годов, решая, какая из двух империалистических сверхдержав более опасна для мирового социализма, Мао заявил, что главным врагом является СССР1.
Не было необходимости восстанавливать капитализм в 1991 году — это уже было сделано в середине 1950‑х годов. Индийский историк Советского Союза Виджай Сингх в ряде работ показал, как социалистическая (или зарождающаяся социалистическая) структура общества начала систематически демонтироваться сразу после смерти Сталина, начиная с экономической сферы. Этому процессу способствовала экономическая реформа Алексея Косыгина 1965 года. Не было никакого социализма, от которого можно было бы отказаться. Поэтому мы не можем определять события 1991 года и последующих лет как «реставрацию капитализма, и точка». Произошло принятие новой модели капитализма. Поскольку эта новая модель в значительной степени опиралась на западные модели — включая установление частной собственности в классическом смысле этого слова, свободного предпринимательства, буржуазной представительной демократии (своего рода) — и этот процесс был одобрен и поддержан Западом, мы можем назвать его «реставрацией» или, может быть, «установлением капитализма западного образца».
Есть значительная преемственность между брежневизмом и постсоветским российским капитализмом — факт, который сегодня становится особенно очевидным, как мы увидим далее в статье.
Постсоветская Россия — прямой продукт советских противоречий. Предыстория и ранняя история
Ещё одно заблуждение, распространённое как в России, так и среди неосведомленных сторонников России, заключается в том, что распад Советского Союза был спланирован Западом, что советский блок потерпел поражение в холодной войне. Конечно, Запад желал такого исхода и сделал всё, что было в его силах, чтобы добиться победы над Советским Союзом — невоенным путём. Однако ни о реальном поражении, ни о настоящей победе здесь говорить нельзя. Падение советской системы и замена её капиталистическим обществом нового типа — событие, которое одновременно открыло двери для широкомасштабного проникновения Запада в страну и спровоцировало формирование феномена глобализации, каким мы его знаем сегодня,— было прямым следствием внутренних противоречий позднего Советского Союза, который к концу 80‑х годов вступил в глубокий структурный кризис.
Роль Запада в этом процессе была не столько прямой (дипломатия, подрывные операции, агенты влияния в высших эшелонах власти, пропаганда «свободного рынка» и «демократических» ценностей), сколько косвенной. На протяжении десятилетий она была соперничающей державой, гораздо более сильной по материальным, человеческим и технологическим ресурсам, и логика жёсткой конкуренции с ней во многом формировала политику советского руководства, приоритеты, ставившиеся перед страной, саму структуру общества и социальных противоречий. Благодаря Никите Хрущёву, который воспринял и извратил ленинскую идею «мирного сосуществования», СССР, конкурируя с Западом, фактически принял правила игры, диктуемые последним.
Посмотрим, как всё это отразилось на причинах кризиса Советского Союза. Гонка вооружений, начавшаяся в 50‑х годах, высасывала страну досуха. По разным оценкам, на национальную оборону тратилось от 25 до 50 процентов ВВП. Большая часть промышленности в той или иной степени принадлежала военно-промышленному комплексу: огромные, высокотехнологичные предприятия, совершенно неспособные выжить в изменившихся экономических условиях. Сегодня эти заводы в значительной степени перешли на производство низкотехнологичных потребительских товаров (таких как вёдра или будильники), а их работники годами остаются без зарплаты. Это также привело к тому, что государство создало множество научных учреждений, занимающихся почти исключительно оборонными исследованиями, что привело к избытку учёных. В начале 1980‑х годов Советский Союз располагал самой большой в мире армией научных исследователей — 11 миллионов человек. Они стали более или менее привилегированной или, по крайней мере, защищённой группой населения, явно считавшей себя элитой и питавшей технократические иллюзии. Именно эта так называемая «научно-техническая интеллигенция» сформировала массовый костяк «демократической» (то есть прозападной, сторонников свободного рынка) оппозиции в конце восьмидесятых годов и в значительной степени ответственна за приход к власти Бориса Ельцина и его команды «реформаторов». Сегодня, как и заводы военно-промышленного комплекса, эти физические и инженерные институты находятся на грани голодания. Моя жена, молодой физик, работающая в одном из таких институтов, зарабатывает эквивалент 35 долларов в месяц.
Другим последствием конкуренции с империализмом на его собственных условиях стало создание советского аналога общества потребления. В так называемом «гуляш-коммунизме» каждому взрослому человеку была гарантирована (и даже обязательна) работа и получение зарплаты, покрывающей его основные жизненные потребности — независимо от того, сколько он/она вообще работали. В книге «Homo Soveticus» упомянутый выше философ Александр Зиновьев описывает, как он работал в конце 70‑х годов в научно-исследовательском институте. В рабочие дни его практически единственной обязанностью было приходить на работу утром, расписываться в специальном журнале о приходе на работу и уходе с работы через определённый интервал. Естественно, у него было два выходных в неделю (суббота и воскресенье) плюс два других дня, называемых «библиотечными днями», в которые он должен был сидеть в библиотеке и не должен был приходить в свой институт и расписываться в журнале. А это четыре выходных в неделю! Тем не менее, ему платили нормальную зарплату, и он пользовался высоким авторитетом как интеллектуал. Ненамного лучше было положение с промышленными рабочими и производительностью их труда. Практически, несмотря на брежневские декларации о достижении полной занятости в стране, скрытой безработицы было много — «скрытым безработным» платили полную зарплату!
Помимо того, что феномен «гуляш-коммунизма» оказывал огромную нагрузку на экономические ресурсы страны, он создавал у населения настроение социального паразитизма. Это особенно сильно отразилось на классовом сознании российского рабочего класса, когда ему пришлось противостоять капитализму в его более традиционных, западных формах.
Одной из наиболее характерных особенностей социал-империалистической системы — опять-таки частично вызванной необходимостью конкурировать с Западом на условиях Запада, но с меньшими по сравнению с ним ресурсами — был жёсткий контроль над населением. Брежневское общество представляло собой жёсткую иерархию, на вершине которой находились высшие партийные аппаратчики. Социальная мобильность была незначительной. От человека, приступающего к работе, более или менее ожидалось, что он останется в одной и той же социальной нише на протяжении всей своей карьеры. Это отразилось, например, на системе образования. Ожидалось, что дети из рабочего класса поступят в профессионально-технические училища, а затем станут рабочими, как и их родители. Дети служащих или интеллигенции обычно поступали в колледж («институт» по-русски) или университет и продолжали заниматься интеллектуальным трудом. Некоторые привилегированные должности, например, должность дипломата, были доступны почти исключительно детям высокопоставленных партийных работников. Запертые в своих фиксированных социальных позициях, неспособные изменить своё призвание и судьбу, советские граждане становились всё более разочарованными и отчаявшимися.
Одним из самых мощных инструментов контроля над массами, основным репрессивным идеологическим механизмом позднесоветского общества была его официальная псевдомарксистская идеология. Эта система — с одной стороны, насквозь ревизионистская, имеющая мало общего с подлинным марксизмом, кроме терминологии, полной разговоров о «гуманизме», «мирном сосуществовании», «развитом социализме», якобы достигнутом в СССР; а с другой, полностью закостеневшая, мёртвая, тупая, низведённая до бессмысленных мантр, которые надо было бездумно повторять,— вдабливалась в голову каждому советскому гражданину огромным и страшно дорогим аппаратом «идеологических работников». Всё инакомыслие и значительная часть неофициальной культуры подвергались беспощадному подавлению. Однако здесь следует сделать различие. Правые диссиденты, такие как Александр Солженицын, Андрей Сахаров, Александр Гинзбург и другие известные общественные деятели 60—70‑х годов, пользовались мощной поддержкой Запада, как материальной, так и в плане медийной гласности, и в целях умиротворения мирового «общественного мнения». Власти СССР относились к ним сравнительно снисходительно. Левые диссиденты разных мастей не имели такой зарубежной поддержки и, вероятно, потому, что псевдолевый режим чувствовал, что они для него более опасны, подавлялись гораздо более безжалостно. Примером может служить ветеран либертарного социализма Пётр Абовин-Егидес; группа Фетисова в конце 60‑х годов, яростно сталинистская, вставшая на сторону Пекина в советско-китайских дебатах; Неокоммунистическая партия СССР в конце 70‑х гг. Мёртвая хватка официальной идеологии в массах порождала цинизм, недоверие ко всей политике, особенно к левой.
Этот контроль осуществляла партийная номенклатурная элита — владелец средств производства во всех отношениях, кроме названия. Как группа, номенклатура всё больше выступала за то, чтобы стать собственниками средств производства также и официально, или, как говорит современная русская поговорка, «конвертировать власть в собственность». Этот процесс подробно объяснил У. Б. Блэнд в своей книге «Реставрация капитализма в Советском Союзе».
Ещё одним крупным противоречием позднесоветской эпохи был национальный вопрос. Центр рассматривал многие национальные республики как фактически колонии. Это особенно верно в отношении республик Средней Азии, таких как Узбекистан, которые были вынуждены выращивать хлопок в ущерб практически всей другой сельскохозяйственной продукции — во многом таким же образом ВТО теперь заставляет страны третьего мира выращивать товарные культуры вместо основных продуктов питания. Режим практиковал государственный антисемитизм с официальными (неопубликованными) ограничительными квотами для приёма евреев в университеты, предоставления определённых должностей и т. д. В результате многие политически дезориентированные евреи приняли сионизм и стали смотреть на Израиль как на своего спасителя. Реставрация капитализма вернула многие из старых, существовавших до 1917 года, национальных противоречий, которые позже вылились в открытые жестокие конфликты между этническими группами в эпоху Горбачёва.
К середине 80‑х все эти противоречия раздирали страну. Существовали законные демократические и либертарные устремления широких народных масс, не желающих больше жить в закрытом, коррумпированном и репрессивном обществе. Существовали законные требования нерусских национальностей о национальном суверенитете. Существовала партийная и правительственная бюрократия, особенно её молодые и/или более прозападные слои, стремившиеся стать законными владельцами того, что они уже контролировали, стать капиталистами западного образца. Была криминальная буржуазия, бароны чёрного рынка, желавшие отмыть свою добычу и стать респектабельными бизнесменами. С социологической точки зрения появилось новое поколение молодых людей (около 30 лет в 1985 г.), которые не могли найти себе места в устоявшемся социальном порядке и хотели перемен, причём наиболее громкоговорящим слоем этого поколения была «научно-техническая интеллигенция». И… давление со стороны Запада, конечно, было.
Руководство Михаила Горбачёва почувствовало, что в стране проблемы, и начало реформы, направленные на спасение социал-империалистической системы. Однако правящая группа не смогла понять истинных причин кризиса, и «реформы» оказались серией бессистемных мер, только усугубивших ситуацию. Начатая под лозунгом «Больше социализма» (как будто от него хоть что-то осталось!), так называемая «перестройка» («реструктуризация») постепенно всё больше опиралась на традиционные западные рецепты и модели, открывая двери для массированного экономического, политического и культурного проникновения Запада в страну в начале 90‑х годов. В этих условиях возникла «демократическая» оппозиция.
На Западе малоизвестен тот факт, что в оппозиции действительно существовала значительная левая составляющая, выступавшая за социалистическую демократию, хотя ни одна из этих сил не имела достаточно глубокого понимания ситуации в то время, чтобы призывать к революционному свержению социал-империалистической системы, постепенно терявшей приставку «социал-». В первую очередь это относится к Марксистской платформе внутри КПСС, созданной в 1990 году Алексеем Пригариным и Александром Бузгалиным. Поддержанная сотнями тысяч членов КПСС, Платформа осуждала партийную бюрократию и решительно выступала за рабочее самоуправление и контроль над партией со стороны масс. Хотя линия Марксистской платформы и была омрачена идеологической неопределённостью и социал-демократическими иллюзиями, она содержала элементы того, что можно было бы назвать протомаоистским (или квазимаоистским) подходом: призывать рядовых членов партии и широкие массы к атаковать «сторонников капиталистического пути» на высших постах бюрократии. В оппозиции были и другие левые компоненты, такие как анархистские и троцкистские группы.
Однако подавляющее большинство оппозиции считало западные капиталистические ценности единственной возможной свободой и демократией. «Жить, как всё остальное цивилизованное человечество» — таков был боевой клич этих сил, сплотившихся вокруг Бориса Ельцина. Два замечательных факта о буржуазно-демократической оппозиции начала 1990‑х годов заслуживают внимания западной аудитории. Во-первых, удивительно малая роль известных диссидентов 60—70‑х годов, многие из которых фактически раскаялись в своих прежних прозападных позициях. Руководители реставрации капитализма западного образца в основном исходили из кругов партийной номенклатуры, начиная с самого Бориса Ельцина (бывшего первого секретаря Свердловского обкома и затем Московского комитета КПСС, кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС) и многих его ближайших соратников, вроде Анатолия Чубайса или Егора Гайдара. Во-вторых, тот, казалось бы, удивительный факт, что значительная часть рабочего класса оказалась вовлечённой в про-демократическое и прокапиталистическое движение и активно участвовала в протестах, которые объективно противоречили его собственным классовым интересам. Так, в 1990—1991 годах шахтёры Кемеровской области в Сибири подняли мощную волну проельцинских политических забастовок, которые во многом способствовали триумфу «демократических» и «свободных рыночных» сил.
Если не считать расплывчатых лозунгов «демократии» и «свободного рынка», среди этих сил было мало единства, когда они одержали победу в августе 1991 года. Ранняя история постсоветской России (до расстрела парламента в октябре 1993 г.) — это во многом история разграничения классовых интересов и появления самостоятельных политических сил, представляющих интересы различных классовых групп. К 1993 году тремя основными игроками в игре были следующие.
Во-первых, прозападная, или компрадорская, буржуазия. С экономической точки зрения большая часть отечественной обрабатывающей промышленности советской эпохи стала практически неактуальной. Основой экономики постсоветской России стали поставки сырья на Запад: природного газа, сырой нефти, электроэнергии, металлов. Возникли огромные монополии, каждая из которых контролирует — «Газпром» (газ), РАО ЕЭС (электроэнергетику), несколько крупных нефтяных компаний (таких как Лукойл, Сибнефть или ЮКОС), «Сибирский алюминий» (алюминий) и т. д. …
- Видимо, это ошибка. Такой тезис официально выдвигался после смерти Мао, а, возможно, кое-кем и в его последние годы, но неизвестно никаких подтверждений, что Мао его выдвигал или одобрял.↩