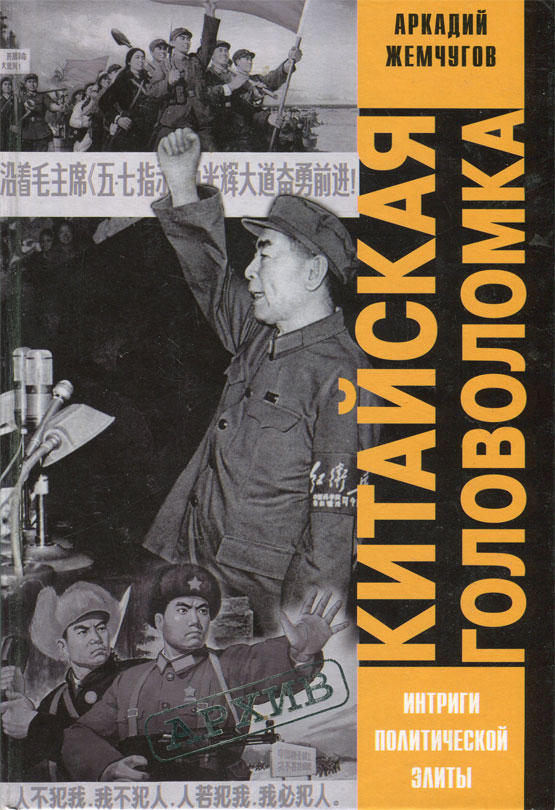
Пролог
‹…›
«В просторной приёмной Мао Цзэдуна, где участники встречи расположились в огромных европейского вида креслах, царила атмосфера сдержанности и взаимной насторожённости. После обычной в таких случаях словесной разминки Хрущёв с присущей ему прямотой приступил к цели своего визита.
Он как бы стремился к тому, чтобы доказать своё намерение выполнить в духе интернационализма общесоциалистические задачи, стоящие перед нашими странами. Говорил о важности единства нашего содружества, единстве целей построения социализма и коммунизма. О стремлении к дальнейшему развитию и укреплению всестороннего сотрудничества между Советским Союзом и Китаем, отвечающего интересам наших народов.
При этом Хрущёв отметил особую ответственность двух великих держав в ядерную эпоху, говорил об обеспечении справедливого и прочного мира и международной безопасности.
Выслушав довольно пространное высказывание Хрущёва, который, как обычно, мало следил за подбором слов, был косноязычен, заполнял паузы словами-паразитами, Мао Цзэдун выразил понимание по поводу существующей опасности ядерного столкновения.
— Именно поэтому нам чрезвычайно важно иметь у себя ядерное оружие, но у нас его нет,— произнёс Мао Цзэдун, бросив взгляд на собеседника.
— А зачем оно вам, когда мы его имеем и готовы защищать Китай, как самих себя, в соответствии с условиями Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР и КНР? — выпалил Никита Сергеевич.
— Благодарим, но Китай — великая и суверенная страна, и нам самим нужно обладать ядерными средствами, чтобы защитить себя в случае войны. Если не склонны поделиться с нами этим оружием, то помогите нам технологией со здания ядерной бомбы,— продолжал хозяин.
— Но ведь производство атомной бомбы, знаете ли, чрезмерно дорогостоящее дело. Помимо всего, оно отнимет у вас буквально всю электроэнергию, которую вы вырабатываете в стране,— не отступал гость.
— Ну что ж, справимся и своими силами с американским „бумажным тигром“,— не без самоуверенности сказал Мао Цзэдун.
…Время от времени собеседники касались как бы отвлечённых вопросов. Но и в этом случае говорили только Мао Цзэдун и Хрущёв.
— Вы не курите сигарет и, кажется, не одобряете нашей заварки зелёного чая, тогда как я непрерывно затягиваюсь никотином и всё время пью чай, а потом ещё съедаю чайные листья,— сказал Мао Цзэдун и, беря пальцами зелёные лепестки из чаши, отправлял их в рот, пережёвывал и проглатывал.
— Как говорят чукчи, у меня нет мелких пороков. Впервые вижу, однако, чтобы „закусывали“ чайным листом.
— Европейцев, по моим впечатлениям, многое удивляет в Китае. Мы редко едим хлеб, хотя мучные блюда у нас не редкость. Питаемся рисом, без которого не можем обойтись, тог да как иностранцы употребляют рис редко и мало. Кстати, прошлый год в Китае был очень удачный, мы собрали весьма щедрый урожай зерновых. У нас образовались солидные излишки пшеницы, и мы озадачены, что с ними делать. Не дадите ли полезного совета? — неожиданно спросил хозяин.
— Откровенно говоря, у нас никогда не было избытка зерна. Напротив, все время испытываем недостаток. Поэтому затрудняюсь предложить вам что-либо полезное,— ответил советский гость.
Мао Цзэдун, разумеется, прекрасно знал о напряжённом положении с зерном в Советском Союзе. Похоже, он рассчитывал на другой ответ собеседника, но тот повёл себя, как это принято в дипломатии, довольно уклончиво.
У Хрущёва были свои соображения на этот счёт. Ведь он, как известно, предсказывал скорую победу коммунизма в Советском Союзе, а Мао Цзэдун стремился ещё быстрее добиться этой цели в Китае.
Главной проблемой в переговорах Хрущёва и Мао Цзэдуна был вопрос о культе Сталина.
— Решение съезда КПСС относительно культа личности Сталина, на наш взгляд, вряд ли было обосновано в полной мере,— как бы между прочим начал Мао Цзэдун.
— Решение это не вызывает сомнений ни в нашей партии, ни в народе,— отчеканил Хрущёв.
— Вы, естественно, вправе сами решать внутренние ваши вопросы — партийные и государственные. Но Сталин… его выдающаяся роль как вождя мирового революционного движения, китайского в том числе,— такие проблемы, как нам представляется, следует решать не в одностороннем порядке, а с учтом международной взаимосвязи,— продолжал китайский лидер.
— Сталин и сталинизм — явление, прежде всего, национальное. Оно возникло и сложилось в Советском Союзе. Поэтому мы вправе выносить своё решение. И мы его вынесли,— стоял на своём советский гость.
— Решение вынесли, но одностороннее по существу и по самому подходу. Решали так, будто это — явление исключительно местного значения, дело одной партии, одной страны. Но ведь это не так, это слишком узкий взгляд.
— Культ личности Сталина — порождение национальное в том смысле, что он создавался в нашей стране и мы за это несём ответственность.
— Но правильно ли ограничивать сталинизм одной страной, Советским Союзом, когда он приобрёл международное значение?
— Но именно мы, советские коммунисты, должны были дать культу Сталина правильную оценку.
— Не слишком ли поспешно и субъективно было принято решение об осуждении Сталина? Ведь ему принадлежит огромный вклад в коммунистическое движение во многих странах. А великое дело революции, в том числе в Китае: разве допустимо всё это отрицать или преуменьшать?
Наступила пауза. Мао Цзэдун взял стоявшую на столике чашу с чаем, не спеша отпил из неё, поставил на место и вновь посмотрел на собеседника.
— Вы говорите об огромном вкладе Сталина,— продолжал Хрущёв,— но забываете, какой ценой наша партия, народ заплатили… Разве можно оправдать его произвол, расправы, массовые жертвы, миллионы загубленных жизней при коллективизации или в ходе Великой Отечественной войны?
— Не об этом речь. Никто не собирается оправдывать Сталина за проведение коллективизации в Советском Союзе. Это — внутреннее ваше дело. Кто в этом повинен — Сталин или не только он один,— вам лучше знать. Речь о другом. Имя Сталина глубоко почитаемо во многих странах мира, он служил высоким образцом убеждённого революционера, мы верили в него, в его учение и опыт. И теперь всё это перечёркивается. Мы рискуем потерять то, что накапливалось десятилетиями мужественной борьбы, потерять авторитет коммунистов, потерять веру…
— Веру? А разве это не было заблуждением, обманом? Об этом мы должны были сказать. Мы обязаны были обнажить ложь, раскрыть правду, как горько это ни было для нас.
— Мы хорошо знаем, что такое горечь. Вся история нашей борьбы — горький опыт. Мы давно постигли, что горькое лекарство — самое верное. Но вашим решением осуждаются не только промахи и ошибки — кто от них застрахован? Вы подвергли безоговорочному осуждению всё, что связано с именем Сталина, не дав себе труда отделить больное от здорового, негативное от положительного, что должно быть объективно признано.
— Мы сказали правду!
— Решение ⅩⅩ съезда КПСС крайне осложняет обстановку. При таком положении дел невозможно рассчитывать на нормальные отношения между нашими партиями.
Столь крутой поворот серьёзно охладил нашу возникшую было вначале надежду на примирение. Когда одна из сторон бескомпромиссно претендует на истину, может ли идти речь о примирении? Наше руководство заняло тогда твёрдую позицию. И это не могло не породить новых трудностей.
— Едва ли разумно спешить со столь далеко идущими выводами,— ответил Хрущёв.
Иногда мне казалось, что переговоры эти напоминали дискуссию людей, теряющих временами способность отличать то, что говорится, от того, кто говорит и как говорит.
У Никиты Сергеевича, по моим впечатлениям, от природы было в высшей степени развито политическое чутьё, которое, однако, нуждалось в подкреплении научными знаниями и культурой, но их ему не удалось приобрести.
Вдумываясь в причины занятой китайским руководством непримиримой позиции в отношении решения ⅩⅩ съезда КПСС, я не мог и не могу отделаться от личного впечатления, что Мао Цзэдун усматривал в этом неотвратимую опасность подвергнуться обличительной критике в адрес его собственного культа личности. Он, мне думается, понимал, что после разоблачения культа Сталина грядёт его черед. И тревога эта не была беспочвенной».
И ещё из воспоминаний Н. Т. Федоренко:
«Мао Цзэдун устроил банкет в честь советской делегации. Шло дружеское застолье. Бесконечные блюда, тосты, шутки. И вот разговор зашёл о былых сражениях китайских коммунистов в нелёгкой их войне против гоминьдановцев.
— Скажите, товарищ Мао Цзэдун,— игриво обратился Никита Сергеевич к хозяину,— какова в конце концов ваша философия стратегии и тактики, проводившейся в столь трудных условиях борьбы?
— О, это очень просто,— ответил Мао Цзэдун и, взяв куайцзы (костяные палочки для еды), ловко приподнял из стоявшего перед ним блюда скользкого морского трепанга.— Видите, это ускользающее чудо теперь в моих руках. И я с удовольствием отправляю его в свой рот, из которого, как вы догадываетесь, выход только один. Итак, трепанг у меня в зубах. Он неразделим с моим пищеварением.
— Может быть, окропим это живительными каплями мао тая? — вопросил Булганин.
И все тотчас же осушили по малой стопке напиток, от которого воспламеняется даже вода.
— Так вот,— продолжал Мао Цзэдун насчёт философии стратегии и тактики,— трепанга я пережёвываю и проглатываю. Можете не сомневаться, что это именно так. Теперь облюбовываю второй экземпляр трепанга, покрупнее, столь привлекательно возлегающий на блюде. И беру его палочками — вот так. Но поместить его в свой рот, чтобы раскусить, пока что не тороплюсь. Предпочитаю подержать его, пусть повисит в воздухе, так сказать, для убедительности. А теперь сосредоточиваю внимание на третьем трепанге, который так возмутительно возбуждает мой аппетит.
— И что же происходит? — вырывается у А. И. Микояна, который до сих пор не подавал о себе знать.
— Вот об этом, третьем трепанге мы и должны поговорить…— закончил Мао Цзэдун своё повествование по предложенному сюжету».
Какой-либо заинтересованности в продолжении разговора на эту тему советские гости не проявили. Они предпочли промолчать. И судьба третьего трепанга так и осталась невыясненной.
Проводы советской делегации во главе с Хрущёвым выглядели ещё более холодными, чем встреча. Миссия Никиты Сергеевича завершилась полным провалом. Ему не удалось устранить образовавшиеся к тому времени трещины в советско-китайских отношениях. Более того, он их расширил и углубил до размеров непримиримых противоречий. И вскоре годами благоухавшее поле дружбы и сотрудничества между двумя великими соседями стало походить на лунный пейзаж.
О своеобразных отношениях между Н. С. Хрущёвым и Мао Цзэдуном пишет в своих воспоминаниях и другой выдающийся востоковед Михаил Степанович Капица:
«Мао Цзэдун любил дурачить Хрущёва во время их бесед у бассейна1, рассуждая о целесообразности войны, поскольку СССР и Китай могут выставить намного больше дивизий, чем империалистические державы. „Великий кормчий“ утверждал, что Советский Союз воевал против фашистской Германии неумело: надо было, не проливая крови, отойти за Урал и ждать, пока США и Англия разгромят фашистскую Германию. Мао Цзэдун называл империализм, атомную бомбу „бумажными тиграми“. Хрущёв излагал свои взгляды, но быстро выходил из себя, горячился, что доставляло „кормчему“ великое наслаждение…
Я постоянно думал, почему это произошло, кто несёт ответственность за это несчастье, и пришёл к заключению: виноваты два человека — Хрущёв и Мао Цзэдун, Мао Цзэдун и Хрущёв. Я нередко видел того и другого, наблюдал, как они все более „заводились“, как всё глубже оказывались в плену взаимной неприязни… И Хрущёв, и Мао Цзэдун, очень разные личности, рождённые разными цивилизациями, имели много общего. Оба обладали низкой культурой, примитивной грамотностью, были людьми с громадным тщеславием и амбициями и с неограниченной властью… У них давно чесались руки».
Справедливости ради, следует сказать, что Мао Цзэдун любил ставить в тупик не только Хрущёва. В августе 1944 года в беседе со связным Коминтерна П. П. Владимировым он признался, что ему нравится скрывать свои чувства и разыгрывать нужную в данный момент роль даже перед хорошо знакомыми людьми — разыграет кого-нибудь, а потом интересуется, удачно ли получилось.
В ноябре 1957 года, прибыв в Москву во главе делегации КНР, он буквально шокировал Старую площадь высказываниями о том, что «бедность — это хорошо!
», что «страшно подумать о том времени, когда все будут богаты
», что «люди от избытка калорий будут о двух головах, о четырёх ногах
». А встретившись с К. Е. Ворошиловым без всякого на то повода заявил, что «скоро умрёт и предстанет перед Марксом
».
Немало удивил Мао Цзэдун участников совещания коммунистических и рабочих партий в Москве своими рассуждениями об угрозе новой мировой войны.
«Можно ли предположить,— говорил он,— какое количество людских жертв вызовет будущая война? Возможно, будет одна треть из двух миллиардов семисот миллионов населения всего мира, то есть всего лишь девятьсот миллионов. Я считаю, что это ещё мало, если действительно будут сброшены атомные бомбы. Конечно, это очень страшно. Но не так плохо было бы и половину. Почему? Потому, что не мы хотели этого, а они, они навязывают нам войну. Если будем воевать, то будет применено атомное и водородное оружие… Если половина человечества будет уничтожена, то ещё останется половина, зато империализм будет полностью уничтожен и во всём мире будет только социализм, а за полвека или за целый век население опять вырастет, даже больше чем наполовину».
Кто-то из участников совещания тогда заметил, что председатель Мао не оригинален в своих суждениях, что он уподобился китайскому философу Шан Яну, жившему задолго до нашей эры и утверждавшему: «Если бедная страна бросит все свои силы на войну, она станет сильной и могучей. А если страна богата, но ни с кем не воюет, она непременно станет слабой
». И ещё: «Если войну можно уничтожить войной, позволительна и война; если убийством можно уничтожить убийство, то не возбраняется и убийство; если наказаниями можно уничтожить наказания, допустимы и суровые наказания
».
…В сентябре 1958 года с кратким рабочим визитом в Пекин срочно вылетел министр иностранных дел СССР А. А. Громыко. Сопровождал его, как обычно, М. С. Капица.
«Мы старались выяснить, — пишет он в своих мемуарах,— для чего китайские власти затеяли обстрел прибрежных островов Мацзудао и Дзиньмыньдао. Обстановка в Тайваньском проливе обострилась до крайности, в Вашингтоне даже стали обсуждать вопрос о применении атомной бомбы…»
Определённую пикантность этому срочному визиту в Пекин советских представителей придавал тот факт, что буквально за пару-тройку недель до обстрела островов, а он начался 23 августа, в китайской столице велись переговоры с советской делегацией. Невольно возникал вопрос: «Неужели Пекин не поставил в известность лао дагэ — „уважаемого старшего брата“ (так китайцы обращались к нам в те годы) о своих намерениях в отношении Тайваня и прибрежных островов, находившихся под контролем гоминьдановцев?»
Кремль, разумеется, был в курсе дела. В своих мемуарах Н. С. Хрущёв пишет
«В 1958 году китайцы обратились к нам с просьбой оказать им помощь оружием, так как они хотят провести новую военную акцию против Чан Кайши. Они попросили авиацию прикрытия, дальнобойную и береговую артиллерию, что-то ещё. Мы всё это дали им. Думали, что они замышляют что-то решительное по ликвидации Чан Кайши. Мы их тогда не только не сдерживали, а, напротив, считали такие действия правильными, помогающими объединению Китая… Ещё когда они готовились, мы считали, что, может быть, необходимо помочь Китаю более активно. И предложили перебросить к ним нашу дивизию истребительной авиации. Они на это предложение вдруг отреагировали очень нервно и дали нам понять, что такое предложение их обидело, оскорбило: им такой помощи не надо! Мы не стали навязываться».
Что же в таком случае взволновало Москву? Ответ однозначен — крайне неудачный для неё выбор времени для начала атаки на Чан Кайши, сделанный в Пекине. Дело в том, что 15 июля 1958 года Соединённые Штаты двинули свои войска против Ливана. Советский Союз незамедлительно отреагировал на это объявлением о начале крупномасштабных военных учений. Противостояние двух сверхдержав обострилось. Стал набирать обороты очередной международный кризис с непредсказуемыми последствиями. В этой ситуации возникшая в районе Тайваньского пролива напряжённость была для Москвы весьма некстати. Потому-то А. А. Громыко так спешно вылетел в Пекин за разъяснениями.
«Из рассуждений Мао Цзэдуна,— пишет М. С. Капица,— стало ясно, что китайское руководство не ставило задачи освободить острова, а хотело лишь показать, что Китай не забыл о них и освободит когда пожелает. Атомного шантажа Китай не боится. Если США нанесут ядерный удар, китайское правительство отойдёт в Яньань и будет продолжать борьбу».
Объяснения Мао Цзэдуна не выглядели исчерпывающими. Из них не видно было, зачем злополучный обстрел островов оказался приуроченным к обострению ближневосточного кризиса. В Москве, похоже, не придали должного внимания этому немалозначительному нюансу, как и тому, что интенсивный обстрел островов прекратился 13 сентября также внезапно, как и начался. Там восприняли это как очередную курьёзную выходку Мао Цзэдуна. А зря.
Китайские историки ныне признают, что, принимая решение об обстреле островов Мацзудао и Цзиньмыньдао, Мао Цзэдун видел в этом «не столько военную акцию, сколько политическую и пропагандистскую
». Он продемонстрировал сопричастность Пекина, хотя и косвенную, к международному кризису. На чьей стороне? На своей.
Эта точка зрения подтверждается документальными данными, в частности секретной телеграммой, которую Мао Цзэдун 27 июля 1958 года направил министру обороны Пэн Дэхуаю и начальнику генерального штаба НОАК Хуан Кэчэну. В ней говорилось:
«Не могу спать. В раздумьях. Обстрел Цзиньмыня приостановлен на несколько дней… Сейчас не следует вести обстрел. Посмотрим на международную обстановку».
…Чжоу Эньлая как-то спросили, чем объясняются непредсказуемость Мао Цзэдуна, его неожиданные поступки, шокирующие высказывания. После некоторого раздумья Чжоу Эньлай вместо ответа рассказал народную китайскую притчу:
«Жил-был царь обезьян Сунь Укун, обладавший несметным воинством и смело вступавший в конфликты с земными, небесными, подводными и подземными властителями, которые с презрением относились к обезьянам и постоянно обижали их. Доведённые до отчаяния дерзкими и неизменно победоносными действиями бесстрашного Сунь Укуна и его рати, все эти властители в конце концов обратились со слёзной жалобой к Будде. Тогда Будда собственноручно сплёл и надел на голову Сунь Укуна венок из цветов лотоса, сделав его таким образом святым бодисатвой. Лишь после этого прекратились войны и конфликты».
Затем, выдержав паузу, Чжоу Эньлай добавил, что и Китай, который западные державы ни во что не ставят, будет до поры до времени вести себя как Сунь Укун.
Кстати, успокоив тогда, в сентябре 1958 года, А. А. Громыко заверением, что Китай не собирается освобождать прибрежные острова и тем самым раздувать пламя войны в Тайваньском проливе, Мао Цзэдун закончил свои рассуждения неожиданным шокировавшим высокого советского гостя умозаключением. Вот как это выглядело со слов М. С. Капицы:
«— Где мы построим столицу социалистического мира? — спросил Мао Цзэдун и сам же ответил: — Насыплем большой остров в центре Тихого океана и построим на нём столицу мира.
А. А. Громыко тихо спросил меня: „Что это за фантазия?“ Это Мао Цзэдун в своей стихии,— ответил я».
В Москве да и Вашингтоне даже не пытались разглядеть в Мао Цзэдуне обезьяньего царя Сунь Укуна, а тем более — признать его себе равным. Там были поглощены идеей глобального противоборства двух систем и видели мир только биполярным. И отказываться от этого не желали.2
Всё не так, как у других
‹…›
Впереди планеты всей
‹…›
Конфуцианская семья
‹…›
Конфуцианское государство
‹…›
Иллюзии и жизнь
‹…›
По проторённой дорожке к… потрясениям
‹…›
Проблема выживания. Поиски решения
‹…›
Коминтерн в Поднебесной
По образному выражению Мао Цээдуна, «орудийные залпы Октябрьской революции донесли до нас марксизм-ленинизм
». Ему же принадлежат и такие слова: «Китайцы обрели марксизм в результате его применения русскими
». И всё это — сущая правда.3
‹…›
Мао. Извилистый путь в КПК
‹…›
«Мой отец,— вспоминал Мао Цзэдун в конце 30-х годов,— являл собой Узаконенную Власть. Оппозицию представляли я, моя мать, мой брат, а иногда даже и наш подёнщик. Но в нашем едином фронте оппозиции были всё же расхождения во мнениях; мать моя придерживалась политики косвенных нападений и не одобряла попытки открытого бунта против Узаконенной Власти».
Всякий раз, когда возникали между отцом и сыном ссоры, отец требовал, чтобы сын делал коутоу — становился на колени и отбивал поклоны. Но Мао Цзэдун уступал отцу лишь наполовину: преклонял одно колено и имитировал поклоны. Одним словом, «сыновьей почтительностью», одним из важнейших постулатов конфуцианского учения, здесь и не пахло.
Отец спал и видел, когда он передаст сыну по наследству свой нехитрый промысел. Сына же никак не прельщала карьера заурядного перекупщика риса. Своё будущее он видел в совершенно ином свете. И от мечты своей отказываться не собирался. Нашла коса на камень. Дело доходило до того, что мальчик убегал из отцовского дома, но не сдавался. Взбунтовался и тогда, когда отец, следуя морально-этическим канонам конфуцианства, заочно женил его, четырнадцатилетнего подростка, на совершенно незнакомой девушке, да к тому же на шесть лет старше его. Женитьба обернулась скандалом. О том, как впоследствии сложилась судьба первой, несостоявшейся, жены Мао Цзэдун никогда не интересовался.
По достижении восьми лет Мао переступает порог местной частной школы. А в тринадцать из-за вконец испортившихся отношений с отцом бросает учёбу и уходит из родительского дома. В 1910 году семнадцатилетний юноша поступает в Дуншаньскую начальную школу второй ступени уезда Сянтань. А весной следующего года — в сянтаньскую среднюю, школу. Но учёба у него не клеится. И прежде всего потому, что среди одноклассников, в большинстве своём сынков помещиков, он чувствует себя «белой вороной». Те одеты по моде и манеры поведения у них свои, особые. У него же — всего один костюм, да к тому же он — переросток, выше всех в классе. И его деревенские замашки на виду у всех. Насмешки и откровенное презрение делают своё дело. И в 1911 году самолюбивый юноша предпочитает школьному классу солдатскую казарму. Правда, и там он долго не задерживается. Свою гавань он находит в Хунаньском четвёртом провинциальном педагогическом училище. Оттуда в 1918 году он выходит с дипломом учителя. На этом его образовательные университеты заканчиваются.
Примечательная деталь. Все преподаватели, у которых доводилось учиться непоседливому юноше, в один голос отмечали его незаурядные способности, глубокий интерес к древней китайской философии и литературе, а также, что особо подчёркивалось, умение чётко и грамотно излагать свои мысли в классической китайской манере.
Его считали лучшим в училище знатоком Конфуция. Он мог цитировать наизусть целые страницы из трактатов Учителя. В то же время и легизм — антипод конфуцианства — Мао знал от корки до корки. Особый интерес он проявлял к личности императора Цинь Шихуана, вошедшего в историю Китая деспотом и мракобесом. «Книги в огонь, учёных — в яму». Под таким девизом император-легист развернул беспощадную войну с конфуцианством. Все книги, имевшие отношение к учению Конфуция, были сожжены, 460 наиболее влиятельных последователей Учителя были заживо закопаны в землю, а остальные отправлены на строительство Великой Китайской стены.
Цинь Шихуан считается первым императором, сумевшим собрать воедино разрозненные китайские земли и создать централизованное государство. Для этого ему потребовалось 22 года непрерывных войн с сепаратистски настроенными удельными князьями. Но в 209 году до н. э. империя Цинь Шихуана рухнула в результате мощного крестьянского восстания, а легизм оказался поглощённым и переваренным конфуцианством.
Из поля зрения любознательного юноши не ускользнул и даосизм, второе по силе воздействия на китайцев после конфуцианства древнее учение. Труды основателя даосизма Лаоцзы юный Мао Цзэдун так же мог цитировать без конца, как и Конфуция.
Какому из учений он отдал своё сердце, свою душу? Ответ однозначен — никакому! Мао Цзэдун старательно, досконально изучал эти учения, как, впрочем, и весь багаж китайской древности, исключительно для того, чтобы полученные знания активно, с максимальной отдачей использовать впоследствии в своих личных интересах, применительно к конкретной обстановке.
У китайцев в ходу такое изречение: «Каждый образованный китаец в общественной жизни — благочестивый конфуцианец, а в душе своей — непримиримый бунтарь — даос
», Мао Цзэдун — типичное тому подтверждение.
Его книги и выступления пестрят ссылками на Конфуция. Так, в 1938 году он заявлял: «Мы не можем отмахнуться от нашего исторического прошлого. Мы должны обобщить всё наше прошлое — от Конфуция до Сунь Ятсена — и принять это ценное наследство
». Или в 1964 году, выступая за сокращение числа дисциплин в институтских программах, он очередной раз апеллировал к Учителю: «Конфуций был из бедных крестьян, пас овец и тоже не посещал университета. Он был бродячим музыкантом, играл на похоронах. Но он хорошо считал, играл на музыкальных инструментах, стрелял из лука, правил колесницей. Он сызмальства был среди масс и понимал нужды масс… Традиции Конфуция утрачивать нельзя
». Мао Цзэдун говорил это в конкретных ситуациях, преследуя конкретные цели.
А вот в 1940 году своему личному биографу, американскому журналисту Эдгару Сноу, он доверительно признался: «Я ненавижу Конфуция с восьми лет. И всех тех, кто выступает за почитание Конфуция, за изучение его канонических книг, кто проповедует старую этику и старые идеи и выступает против новой культуры и новых идей
». И это не пустые слова. «Великая пролетарская культурная революция» была развязана Мао Цзэдуном под лозунгом непримиримой борьбы против «четырёх старых» — старой идеологии, старой культуры, старых нравов, старых обычаев.
Так же выборочно, потребительски, применительно к конкретному случаю пользовался Мао Цзэдун и даосским учением. Это наглядно видно при сопоставлении высказываний Лао-цзы и председателя Мао:
| Лао-цзы | Мао Цзэдун |
|---|---|
«Чтобы нечто сжать, необходимо прежде расширить его». |
«Чтобы выпрямить, надо сначала перегнуть». |
«Мягкое и слабое побеждает твёрдое и сильное». |
«В мире именно слабый побеждает сильного, всегда угнетённые нации и угнетённые народы наносят поражение империализму и реакционерам». |
«В несчастье живёт счастье; в счастье живёт несчастье». |
«Без жизни нет смерти; без смерти нет жизни. Без верха нет низа; без низа нет верха. Без несчастья нет счастья; без счастья нет несчастья». |
Если в легизме особый интерес у юного Мао вызвала личность императора Цинь Шихуана, то в даосизме — история влиятельной даосской секты «Удоумидао». Её основал во Ⅱ веке н. э. некто Чжан Лу, внук знаменитого даоса Чжаи Даолина, причисленного к лику святых. На землях, принадлежавших секте, Чжан Лу основал карликовое государство из двадцати четырёх даосских общин. Во главе каждой из них был поставлен монах. Замкнутые общины существовали на принципах полного самообеспечения и уравнительного распределения. Жёсткая дисциплина гарантировала выполнение всех, в том числе и самых тяжёлых, трудовых повинностей. В основном это были сельскохозяйственные работы и подсобные промыслы. Много времени отводилось на религиозные даосские обряды, посты, молитвы. Контакты с другими, соседними общинами не поощрялись. С учётом всего этого управление общиной было достаточно надёжным и простым. Но эти первобытные коммунистические братства не оправдали себя, не принесли своим членам желанного счастья и благополучия. Просто прежние светские правители оказались заменёнными на духовных. И больше ничего. Крестьяне как были бедными, обездоленными и забитыми, так и остались таковыми. Разве что прибавилась уйма религиозных обязанностей и ограничений.
Тем не менее, Мао Цзэдун, став «великим кормчим», вспомнит об «Удоумидао» с её примитивным коммунизмом, когда в Китае на смену сельскохозяйственным кооперативам придут народные коммуны.
В годы учёбы молодого Мао Цзэдуна в Чанше, в педагогическом училище, его мировоззрение ещё только формировалось, выкристаллизовывалось из традиционных учений и литературы древнего Китая. Правда, уже тогда, сидя на студенческой скамье, Мао Цзэдун достаточно чётко представлял себе свою «голубую мечту». О ней он старался не распространяться в разговорах с преподавателями и тем более с однокашниками. Но ведь «шила в мешке не утаишь».
Оно, это «шило», показало себя во время спора с Сяо Юйем, земляком и однокашником по педагогическому училищу. Предметом спора была личность императора Лю Бана (Ⅱ век до н. э.). Выходец из крестьян, он сумел возвыситься, стать полководцем и даже занять трон Поднебесной, основав династию Хань.
«Я убеждал его в том, что Лю Бан был плохим человеком,— пишет Сяо Юй в своих мемуарах, опубликованных в США в середине 70-х годов.— Лю Бан сверг деспота, чтобы занять его место и стать ещё более беспощадным деспотом. Он был вероломен и абсолютно лишён каких бы то ни было человеческих чувств. Ради Лю Бана рисковали жизнью его полководцы. И он в награду назначал их своими приближенными сановниками. Однако затем безжалостно убивал их, своих верных генералов и вельмож, опасаясь, как бы они не отняли у него трон. Но Мао не соглашался: „Если бы он не убил их, его трону угрожала бы опасность и Лю Бан не был бы так долго императором“. Я очень хорошо понимал,— продолжает Сяо Юй,— что Мао Цзэдун не хочет продолжать наш разговор дальше, чтобы я не мог критиковать его непосредственно. Мы оба знали, что он в своих стремлениях отождествляет себя с Лю Баном».
Точку зрения Сяо Юйя разделяет уже упоминавшийся Эдгар Сноу. По его убеждению, власть пьянила Мао Цзэдуна с юных лет, воспаляя его воображение. Кстати, и на Старой площади, правда, с явным опозданием, в 70-х годах, удосужились отметить эту «важную черту личных качеств Мао Цзэдуна
» (как будто бы не знали об этом ранее):
«Как партийного функционера и руководителя Мао Цзэдуна на всём протяжении его политической деятельности характеризовало стремление к личному выдвижению. Это стремление вытекало из его склонности к вождизму, проявляющемуся в симпатиях, граничащих с преклонением, к древнекитайским героям, военным деятелям и т. д. Такой круг интересов определился у Мао Цзэдуна, как следует из его воспоминаний, ещё в молодости; в зрелом периоде его жизни это вылилось в стремление насаждать культ своей личности в партии, армии и государстве».
…В период учёбы в педагогическом училище Мао Цзэдун знакомится с взглядами известных китайских буржуазных реформаторов конца ⅩⅨ — начала ⅩⅩ века Кан Ювэя, Лян Цичао, а также с идеями Сунь Ятсена. Любимым чтивом у него становится журнал «Синь циннянь». Программная цель этого общественно-политического и литературного издания была изложена в опубликованной в первом номере статье издателя журнала Чэнь Дусю «Обращение к молодёжи», призывавшей к ломке старых традиций и идеологическому пробуждению китайской молодёжи как главной надежде в деле построения нового Китая. Помимо Чэнь Дусю на страницах журнала регулярно выступали Ли Дачжао, Лу Синь и другие демократически настроенные представители китайской интеллигенции — ярые поборники пересмотра традиционных взглядов, обычаев, идей. В своих статьях они настойчиво подчёркивали, что конфуцианство служит тормозом национального прогресса, и если Китай хочет сравняться с передовыми государствами Европы и Америки, то ему следует решительно порвать с конфуцианской идеологией и традициями древности. По признанию самого Мао, он долгое время находился под влиянием публикаций в «Синь цинняне». Особенно его впечатлили слова Чэнь Дусю о том, что «всё поведение человека, все права и обязанности, убеждения должны определяться его сознанием и не должны зависеть от чужих принципов
». В училище он сближается с профессором Ян Чанцзи, слывшем страстным поклонником немецкой идеалистической философии. Профессор стал покровительствовать молодому человеку, всячески способствовал расширению его научного и политического кругозора. Проштудировав по рекомендации своего наставника сочинение немецкого философа-идеалиста ⅩⅨ века Ф. Паульсена «Основные принципы этики», Мао Цзэдун сам берётся за перо и пишет свой первый опус — «Энергия разума», который, по его словам, «учитель Ян Чанцзи очень высоко оценил со своих идеалистических позиций
». А вскоре, в апрельском номере «Синь цинняня» за 1917 год, Мао публикует свою первую печатную работу «Изучение физической культуры». В этой статье он пишет: «Наша нация нуждается в силе. Военный дух у нас не поощряется, физическое состояние населения ухудшается с каждым годом. Это крайне тревожное явление… Крепость тела — глубокое явление, основа всего. Если физически мы не будем сильны, то при виде вражеских солдат испугаемся, как же тогда мы сможем достичь наших целей и заставить уважать себя?
» И далее, развивая свой взгляд на «физическую силу» как основу «добродетели, мудрости и высокой морали», студент Мао Цзэдун отсылает читателя к своим размышлениям о том, что «без тела нет ни мужества, ни мудрости
», что «мораль находится в теле, как в доме
», что «только крепкие телом могут достичь успехов в учёбе и добродетели
». Цель физического воспитания он видел в формировании «волевой личности
», выражающей «дух нации
». Он утверждал, что «сила воли предшествует карьере человека
». В то время ему было уже 24 года.
Тем не менее, взгляды Мао Цзэдуна в тот период всё ещё отличались неопределённостью и противоречивостью, В 1936 году он поведал Эдгару Сноу, что в далёкие студенческие годы «в моей голове забавно перемешивались идеи демократизма, либерализма и утопического социализма. У меня были какие-то неопределённые увлечения демократией ⅩⅨ века, утопизмом и старомодным либерализмом
». Единственное, в чём у него, причём ещё со школьной скамьи, не было ни малейших колебаний, так это в желании видеть Китай возрождённым, таким, каким он был издревле. «В школьные годы
,— признавался Мао Цзэдун,— я прочёл брошюру о расчленении Китая. В ней говорилось об оккупации Японией Формозы4, о потере суверенных прав над Индокитаем5, Бирмой и прочими странами. Когда я прочёл всё это, я почувствовал себя угнетённым и огорчённым
». И добавлял: «Непосредственной задачей Китая является возвращение всех потерянных районов, а не только защита своего суверенитета по эту сторону стены6
».
В 1920 году Мао Цзэдун стал зятем профессора Ян Чанцзи, женившись на его дочери Ян Кайхуэй.
Каждый уважающий себя китаец хоть раз в жизни совершает паломничество на родину Конфуция, в небольшой городок Цюйфу, провинции Шаньдун. Там у подножия глинистого холма виден грот. Рядом табличка с надписью «Пещера Учителя». Имя не упоминается. Этого просто не требуется. Каждый знает, что это Конфуций.
В 1919 году грот посетил Мао Цзэдун. Смотрителю святыни он задал всего лишь один вопрос: «Знаете ли вы самое любимое изречение Учителя?
» Ответ последовал незамедлительно: «Жизнь течёт, как эти воды, всякий день и всякую ночь
». Впоследствии выпускник педагогического училища не раз вспоминал эти слова, размышляя о скоротечности жизни. Вспомнил он их и в декабре 1970 года во время очередной беседы с Эдгаром Сноу, своим закадычным другом. Американец тогда поинтересовался, кем бы Мао Цзэдун хотел остаться в памяти своих соотечественников: мудрым вождём, великим революционером или кем-то ещё? Мао ответил не задумываясь: «Учителем!
».
Затем, как бы сетуя на свою судьбу, сказал, что ощущает себя «всего лишь одиноким монахом, бредущим по свету под дырявым зонтиком
». Знал ли американец подтекст этого расхожего среди хунаньских крестьян выражения?!
Монах, как известно, обычно наголо острижен, а когда идёт под зонтиком, то, естественно, не видит неба. По-китайски «у» значит «нет», а «фа» — «волосы». Но другой иероглиф, также «фа», значит «закон». Отсюда и подтекст. Для хунаньского крестьянина «У фа, у тянь» («Никаких волос, никакого неба») звучит как «Никакого закона, никакого Неба». Разве не таким считал себя «великий кормчий»?
Бороться с Небом — бесконечное удовольствие.
Бороться с Землёй — бесконечное удовольствие.
Бороться с Человеком — бесконечное удовольствие.
Таким раскрывал себя Мао Цзэдун в одном из своих юношеских стихотворений.
О том, где и чем занимался Мао Цзэдун после окончания учёбы в Чанше, однозначных данных нет.
В ряде китайских источников говорится, что Мао Цзэдун «в мае-июне 1919 года возглавлял борьбу молодёжи провинции Хунань и даже был председателем студенческого союза
». Цель подобных утверждений достаточно прозрачна — показать активное участие Мао Цзэдуна в движении 4 мая. Но это от лукавого. Сам Мао Цзэдун в беседе с Э. Сноу признался, что к работе среди студенчества он подключился только после движения 4 мая.
По другим данным, Мао Цзэдун «осенью 1918 года отправился в Пекин, где начался новый этап его идейного развития, связанный сначала с сильным воздействием на него анархизма, а затем со знакомством в 1919 году с некоторыми идеями марксизма-ленинизма в кружке, созданном Ли Дачжао. В 1921 году возникает Коммунистическая партия Китая и Мао Цзэдун становится её членом
». Но и эти сведения грешат неточностью.
Действительно, после окончания училища в Чанше Мао Цзэдун направился в Пекин, где нашёл работу в библиотеке Пекинского университета. Библиотекой в то время заведовал Ли Дачжао, создавший при ней общество по изучению марксизма. Участвовал ли Мао в работе этого общества? Кого он в тот момент числил в своих идейных наставниках, в друзьях? Чёткие ответы на эти вопросы даёт сам Мао Цзэдун: «Моё положение было очень низким. Никто не хотел со мной дружить. Я регистрировал всех читателей, но подавляющее их большинство не обращало на меня никакого внимания. Здесь я всё же познакомился с известными лидерами движения за новую культуру, такими, как Фу Сынянь, Ло Цзялун. Я испытывал к ним особое чувство, особые симпатии… Однако они были очень занятыми людьми и им некогда было выслушивать помощника библиотекаря, да ещё говорившего на южном диалекте
».
Среди своих друзей того времени Мао Цзэдун называл Чэнь Гунбо, Тань Пиньшаня и Чжан Готао, позже вступивших в компартию, а затем исключённых из неё за антипартийную деятельность, а также Дуань Сипэна, выдвинувшегося в З0-е годы на крупные посты в гоминьдановском правительственном аппарате, и Кан Байцина, эмигрировавшего впоследствии в США и вступившего в ку-клукс-клан в штате Калифорния. «Я читал тогда анархистские пропагандистские брошюры и находился под их сильным воздействием.
— признаёт Мао Цзэдун.— Я часто обсуждал проблемы анархизма и возможность осуществления принципов этого учения в Китае со студентом Пекинского университета Чжу Цяньчжи. Я тогда разделял многие положения анархизма
». К слову, Чжу Цяньчжи называл себя и своих последователей неонигилистами, считавшими, что пока существует человечество, должно иметь место насилие. В своих статьях Чжу Цяньчжи доказывал, что конфуцианство служило одним из источников французского материализма и, следовательно, также одним из источников марксизма. Уже в 1920 году он назвал «борьбу с большевизмом
» одним из главных направлений своей деятельности.
Такими друзьями обзавёлся Мао Цзэдун в Пекине. О Ли Дачжао и его Обществе по изучению марксизма Мао Цзэдун не обмолвился ни единым словом.
По словам Эдгара Сноу, прежде чем стать коммунистом, Мао Цзэдун «менял свои идеологические взгляды, по крайней мере, семь раз, прогрессируя от буддиста через монархиста до социалиста
». Фактически это подтверждает и сам Мао Цзэдун:
«У меня прежде были различные немарксистские взгляды, марксизм я воспринял позже. Я немного изучил марксизм по книгам и сделал первые шаги в идеологическом перевоспитании, однако перевоспитание всё же главным образом происходило в ходе длительной классовой борьбы».
…«Мы идём по узкой, тихой улочке на окраине Шанхая. Сейчас она называется Шинъе, что это значит, я так и не выяснил,— пишет в своих мемуарах Крум Босев, в период „культурной революции“ он был временным поверенным в делах Народной Республики Болгарии в Пекине.— Мы подошли к одноэтажному домику, в котором когда-то размещалась какая-то школа для девиц. В домике создано что-то вроде музея. Смотритель, пожилой поджарый китаец по имени Чан, ввёл нас в комнату, в которой состоялся Ⅰ съезд КПК. В комнате стоит продолговатый стол, на нём — чайник и двенадцать чашечек, две пепельницы, ваза. „Зал сохранен таким, каким он был во время съезда“,— говорит нам Чан. „С портретом и плакатами?“ — спросил, оглядывая стены, мой товарищ.
На одной стене висит портрет Мао, а на другой лозунг: „
Из искры может разгореться пламя“, под ним подпись: „Мао Цзэдун“. На другой стене — другой лозунг: „Создание коммунистической партии Китая — это огромное событие, потрясшее весь мир“. Подпись: „Мао Цзэдун“.Мы сидим за продолговатым столом, пьём чай, а смотритель музея Чан рассказывает о тех далёких днях… Но что я слышу? Рассказ становится всё монотоннее, бледнеют события, исчезают имена и остаётся лишь одно имя — Мао Цзэдун. Сначала он просто „председатель“, затем „вождь“, „великий“, „самый“, „самый-самый“… и незаметно история партии превращается в историю „нашего самого великого“…
Чан рассказывает, что до съезда „председатель Мао предпринял целый ряд действий по созданию КПК“, творчески сочетая „марксизм-ленинизм с китайской практикой“, что в соответствии с „революционной линией, разработанной Председателем Мао“, была принята первая программа партии, „под руководством председателя Мао“ партия десятки лет „вела героическую борьбу“…».7
‹…›
Президентов — много, председатель — один
‹…›
[Мао] беспокоило другое: как его будут величать? Ему предлагали назваться президентом или премьером. Он решительно отверг и то и другое. В мире много президентов, даже в Китае были, сначала Сунь Ятсен, а теперь Чан Кайши. Премьеров же и подавно хоть пруд пруди. Он же, Мао Цзэдун хотел быть неповторимым, единственным, как, к примеру, Конфуций — Учитель! И этим всё сказано. По душе ему пришёлся титул «председатель». И он с ним не расставался до конца своих дней!
…Всё в том же 1931 году произошло поистине трагическое событие, коснувшееся Мао Цзэдуна. В июле его вторая жена Ян Кайхуэй, подарившая ему двух сыновей, была арестована и обезглавлена в городе Чанша по приказу Хэ Цзяня, губернатора провинции Хунань. Как воспринял, как пережил это Мао Цзэдун — неизвестно. Зато известно другое — за два года до этой трагедии он женился в третий раз.
…«В середине седьмого месяца председатель Мао прибыл во главе нашего полка в уезд Юнсинь, где мы поселились в здании волостной управы. Местные юнсиньские товарищи часто приходили повидаться с председателем Мао. Была среди них и товарищ Хэ, красивая и бойкая. Она особенно много беседовала с председателем. В первый же вечер товарищ Хэ прислала пару гусей и две фляжки байгара8. Председатель пригласил её остаться поужинать. За трапезой они очень сблизились. На второй день председатель созвал собрание юнсиньской партячейки, и эта девушка выступала больше всех. Собрание закончилось только в одиннадцать вечера. Председатель сказал, что ему ещё нужно обсудить очень важный вопрос с товарищем Хэ. Они работали долго. Наутро, встав с постели, председатель умылся и с радостным выражением лица сказал нам: „Мы с товарищем Хэ полюбили друг друга, у нас товарищеская любовь переросла в супружескую. Это начало совместной жизни в революционной борьбе“. При этом смеющаяся товарищ Хэ стояла рядом, по правую руку от председателя».
Такой в памяти одного из охранников Мао запечатлелась церемония, в ходе которой Председатель КПК сам сочетал себя третьим браком с 17-летней крестьянской девушкой, командовавшей местным отрядом самообороны и метко стрелявшей с обеих рук.
С этого момента товарищ Хэ — Хэ Цзычжэнь старалась всегда быть подле председателя. Она подарила ему пятерых дочек. Но и к ней, как к Ян Кайхуэй, судьба оказалась неблагосклонной. В одной из стычек с гоминьдановцами Хэ Цзычжэнь получила 20 (!) шрапнельных ран, из них 8 серьёзных. Начались мучительные годы бесконечного лечения. В конечном итоге её переправили в Москву. Врачи оказались бессильны. Она скончалась в одной из московских клиник9, а пять дочек председателя Мао были розданы на воспитание в крестьянские семьи.10
‹…›
Неоднократно упоминавшийся Отто Браун, немецкий коммунист, сразу же по окончании весной 1932 года Военной академии имени М. В. Фрунзе был направлен Исполнительным комитетом Коминтерна в Китай, где пробыл семь с половиной лет, до осени 1939 года. «В общих чертах
,— пишет он в своих мемуарах,— моя задача заключалась в том, чтобы в качестве военного советника помогать Коммунистической партии Китая в её борьбе на два фронта: против японских агрессоров и против реакционного режима Чан Кайши
». А это предполагало постоянный контакт Ли Дэ, как называли Отто Брауна его китайские коллеги, с высшими руководителями КПК, включая Мао Цзэдуна. С ним он лично встречался и беседовал, а также наблюдал его поведение на заседаниях Политбюро и даже его Постоянного комитета в течение нескольких лет. Каким запечатлелся председатель Мао в памяти Ли Дэ?
«Стройный, худощавый человек лет сорока, он поначалу произвёл на меня впечатление скорее мыслителя и поэта, нежели политического деятеля и солдата. В тех редких случаях, когда мы встречались в непринуждённой праздничной обстановке, он вёл себя сдержанно и с достоинством, подбивая, однако, других на выпивку, болтовню и пение. Сам он в разговорах отделывался афоризмами, которые хотя и звучали вроде бы безобидно, но всегда имели скрытый смысл, а порой содержали и злой сарказм. Так, я долго не мог привыкнуть к таким острым блюдам, как жареный стручковый перец, излюбленная еда в Южном Китае, особенно на родине Мао, в Хунани. Это дало повод Мао язвительно заметить: „
Красный перец — пища настоящего революционера“ и ещё: „Кто не выносит красного перца, тот не солдат“. Когда впервые встал вопрос, следует ли нашим главным силам прорывать блокаду Центрального советского района, он ответил иносказательно — цитатой, по-моему, из Лао-цзы: „Плохой мясник разрубает кости острым топором, хороший — отделяет их друг от друга тупым ножом“. Он вообще имел обыкновение обращаться к образам фольклора и цитировать китайских философов, полководцев и государственных деятелей прошлого. Мне говорили, что ставшие известными восемь политических и четыре тактических принципа Красной армии он также частично позаимствовал из истории, в частности из лозунгов Тайпинского восстания во второй половине ⅩⅨ века. Тезис о том, что войска должны вступать в бой только при полной уверенности в победе, созвучен аналогичному положению из „Трактата о военном искусстве“ древнекитайского полководца Сунь-цзы. Правда, это не помешало ему во время Великого похода цитировать и другое место из того же Сунь-цзы, где говорится, что солдат надо размещать на таких позициях, откуда они не могут удрать, и тогда они будут стоять насмерть. Упоминавшийся выше афоризм о красном перце Мао варьировал в зависимости от ситуации. В Юньнани символом подлинного революционера стали кубики опиума, которыми Красная армия расплачивалась вместо серебра, а в Сикане — вши, которые буквально съедали нас. Подобные поговорки сравнения, образы, перечень которых можно было бы умножить, выдавали его утилитарный, прагматический образ мышления, но они достигали цели, так как употреблялись каждый раз по какому-нибудь конкретному поводу. Мао использовал их не только в личных разговорах или в узком кругу. Я сам был свидетелем того, как он умел увлечь за собой крестьян и солдат посредством легко запоминающихся лозунгов и революционных фраз.Разумеется, он прибегал и к известной ему марксистской терминологии. Но его знания марксизма были весьма поверхностны. Во всяком случае, у меня сложилось именно такое впечатление, и Бо Гу подтвердил это… Мао в присущей ему эклектической манере истолковывал марксистские понятия, вкладывая в них совершенно иное содержание. Так, он часто говорил о пролетариате, но понимал под ним отнюдь не только промышленных рабочих, а все беднейшие слои населения: батраков, мелких арендаторов, ремесленников, мелких торговцев, кули и даже нищих… Гегемонию и диктатуру пролетариата — Мао употреблял поочередно оба этих термина — он сводил к господству коммунистической партии, которое воплощалось через власть Красной армии…
Но ещё больше, чем на „
народнических замашках“, как мы говорили в шутку, его влияние основывалось на традиции многолетней вооружённой борьбы, в ходе которой он стал своим среди крестьян. На горожан, не участвовавших в этой борьбе, он обычно смотрел презрительно… Он признавал только вооружённую борьбу крестьянской армии. Будучи во власти иллюзии, будто только он один призван довести до победы революцию, как он её себе представлял, Мао считал дозволенным любое средство, которое приближало его к цели — к личной неограниченной власти».11
‹…›
Классическая опера под названием «Чжэнфын»
‹…›
С годами Мао Цзэдун становился всё более опытным политическим и партийным деятелем, постигшим премудрости неизбежных в политике и дипломатии недомолвок, двусмысленностей, передержек, интриг. И всё ради власти, реальную силу которой он стал осязать. Правда, всего лишь на части территории Поднебесной — в Особом районе.
…В конце ноября — начале декабря 1935 года в Ваяобао нежданно-негаданно объявился Чжан Хао, кандидат в члены ЦК, сотрудник представительства КПК при Исполкоме Коминтерна. От него Мао Цзэдун и другие члены Политбюро впервые узнали о том, что в Москве от их имени и имени всей партии и даже «китайского советского правительства» обнародован так называемый «Манифест 1 августа» — «Обращение ко всем соотечественникам по поводу сопротивления Японии и спасения родины», и «Воззвание от 25 ноября» на эту же тему. Оба документа были написаны лично Ван Мином, лидером «московской группы» в КПК, в духе решений 7-го конгресса Коминтерна, состоявшегося в Москве в августе того же года. Ни о каком предварительном согласовании с Мао Цзэдуном и Политбюро в целом не было и речи. Представительство КПК при ИККИ, а точнее — Ван Мин, приняло решение, партия должна его выполнить!
Ответ Мао Цзэдуна последовал 25 декабря в резолюции Политбюро. В «Манифесте 1 августа» и «воззвании от 25 ноября» содержался призыв незамедлительно созвать национальную конференцию по спасению родины, в которой должны принять участие представители всех партий, групп, обществ, армий, которые хотят сражаться против Японии, чтобы обсудить конкретные мероприятия по мобилизации и объединению всех патриотических сил Китая. Гоминьдан как главная на тот момент политическая и военная сила в стране был специально включён в состав участников конференции.
В решении Политбюро от 25 декабря также содержался призыв к созданию единого фронта борьбы за спасение родины. Но при этом, как бы между прочим, говорилось о том, что главными движущими силами этой борьбы являются «рабочий класс, крестьянство, городские средние слои и молодая интеллигенция
». Национальная же буржуазия называлась как колеблющаяся и неоднородная часть общества, которая тем не менее может быть вовлечена в антияпонскую борьбу. А вот «компрадорская буржуазия и феодалы-помещики, высшие сановники и крупные милитаристы
» напрочь исключались из единого фронта как «заклятые враги народа
», «предатели родины
», «лакеи империализма
». Прямо не говорилось о том, что Чан Кайши — типичный представитель компрадорской буржуазии. Но этого и не требовалось. Это подразумевалось само собой.
Точки над «i» были поставлены в другом абзаце решения: «Тактическая линия нашей партии должна состоять в мобилизации, сплочении и организации всех революционных сил китайского народа для борьбы против главного врага на современном этапе — японского империализма и против главного предателя нации — Чан Кайши
».
Двумя днями позже, 27 декабря, Мао Цзэдун в своём выступлении на партактиве назвал Чан Кайши «сытой собакой
», а местных милитаристов из провинций Шэньси, Гуанси, Гуандун и других — «голодными собаками
», с которыми можно вступать в союзы и заключать соглашения против центрального правительства Чан Кайши.
Преподнеся таким образом марксисту-ленинцу Ван Мину наглядный урок на тему единого фронта, Мао Цзэдун не забыл вставить шпильку и Коминтерну, включив в решение Политбюро от 25 декабря такой пассаж: «Авантюристические войны японского империализма в Китае и итальянского империализма в Абиссинии несомненно таят в себе опасность второй мировой войны… В результате этого возникнет положение, при котором китайская революция уже больше не будет изолированной
». И далее: «Поскольку оказались безуспешными все предпринятые Советским Союзом по отношению к Японии миролюбивые акции, а также в силу активных провокационных действий японского империализма, направленных против Советского Союза, СССР всегда готов выступить против этого агрессора. Таким образом, разгром японского империализма становится общей целью китайской революции, японской революции и борьбы Советского Союза против этого агрессора
».12
‹…›
От Коминтерна к Вашингтону. Мао в жизни
‹…›
22 июля 1944 года девять сотрудников американской миссии впервые пожаловали в Яньань. Мао Цзэдун и другие руководители КПК встречали американцев на аэродроме в новеньких даньи. Контакт состоялся. Начались переговоры.
22 августа 1944 года Председатель КПК уверял американского дипломата Дж. Сервиса в том, что «политика китайских коммунистов является только либеральной
» и «даже наиболее консервативные американские бизнесмены не найдут в программе китайских коммунистов ничего такого, против чего можно было бы возразить
».
«Америка и Китай,— вещал Мао Цзэдун,— дополняют друг друга экономически: они не будут конкурировать между собой… у Китая нет потребности в развитии крупной тяжёлой промышленности… Китай нуждается в создании лёгкой промышленности, чтобы обеспечить свой собственный рынок и повысить жизненный уровень своего народа… США являются не только наиболее подходящей страной, чтобы помочь этому экономическому развитию, они являются единственной страной, вполне способной, чтобы принять в этом участие».
Американец поинтересовался, почему Председатель КПК столь явно делает упор на важность для Китая американской помощи и поддержки, но ни словом не упоминает Советский Союз. Ответ был запредельно откровенным:
«Мы не ждём русской помощи. Русские очень сильно пострадали в этой войне, их руки будут полностью заняты работой по восстановлению своей страны».
Не менее откровенными были тогда и признания Мао Цзэдуна американскому журналисту Гаррисону Форману:
«Мы не стремимся к социальному и политическому образцу коммунизма Советской России. Скорее предпочитаем думать, что мы делаем нечто такое, за что сражался Линкольн во время гражданской войны: за освобождение рабов. В Китае мы имеем миллионы рабов, закованных в кандалы феодализма».
В сентябре 1944 года в Чунцин прилетел Патрик Хэрли, личный представитель президента США Рузвельта, с поручением подтвердить политическое признание Особого района, закрепить контакт с Мао Цзэдуном и, главное, сгладить остроту отношений между КПК и гоминьданом.
Мао Цзэдун незамедлительно направляет Хэрли приглашение посетить Особый район. Приглашение принимается. И 7 ноября 1944 года личный представитель Рузвельта спускается по трапу самолёта в Яньани. Его приветствуют Мао Цзэдун и его окружение. В тот же день вечером начались переговоры. Хэрли предварил их напоминанием о том, что он направлен в Яньань президентом Рузвельтом с согласия президента Чан Кайши.
«Однако моя цель,— уточнил он,— не имеет ничего общего с налаживанием отношений между Соединёнными Штатами и Компартией Китая. И этой темы мы не будем касаться в переговорах. Сейчас первостепенную роль для успешного завершения мировой войны имеет единство Китая, а значит урегулирование спорных вопросов между двумя крупнейшими политическими группировками: компартией и гоминьданом».
Хэрли предложил обсудить привезённый им из Чунцина проект соглашения между КПК и гоминьданом, которому, по его словам, следовало придать характер официального договора между двумя сторонами при посредничестве третьей стороны — Соединённых Штатов. Исходя из этого, продолжал он, все четыре экземпляра соглашения будут скреплены подписями Мао Цзэдуна, Чан Кайши и его, Хэрли, как посредника. Один экземпляр — Мао Цзэдуну, ещё два — Чан Кайши и Рузвельту и последний, четвёртый, ему, так сказать, на память об этом выдающемся событии.
Хэрли хотелось вписать своё имя в анналы мировой истории. Мао Цзэдун не возражал, поскольку это вполне отвечало и его интересам. Тем более что первоначальный, предложенный американцем проект соглашения он сумел дополнить несколькими пунктами, «улучшил» его так, как это он обычно делал с директивами Коминтерна. Хэрли не усмотрел в этом ничего предосудительного.13
‹…›
С мая 1942 года по ноябрь 1945 года в качестве связного Коминтерна при руководстве ЦК КПК в Яньани находился Пётр Парфёнович Владимиров. В его дневниковых записях, которые он аккуратно вёл всё это время14, скрупулёзно описаны и встречи с Мао Цзэдуном, позволяющие составить портрет хозяина Особого района.
1942 год.
11 мая.
ТБ-3 приземлился в речной долине между склонами гор. Нас ждали Долматов, Алеев и китайские товарищи.
«Рад приветствовать дорогих советских друзей
»,— сказал Мао Цзэдун, пожимая мне руку. Он осведомился о моём здоровье, поздоровался с моими товарищами и экипажем. Потом заметил мне: «Я смогу принять вас в ближайшие дни. Возможно, завтра…
».
Держался он просто, неторопливо задавал вопросы и, улыбаясь, внимательно выслушивал каждого из нас. Его одежда, как и остальных китайских товарищей,— тёмная хлопчатобумажная куртка и такие же штаны. Эту одежду называют даньи. В отличие от даньи других партийных и военных работников, куртка и брюки Мао Цзэдуна изобиловали заплатами. На ногах тапочки, сплетённые из верёвки.
…Мао Цзэдун попрощался с нами и направился к автомобилю, за ним — парни с маузерами. Шофер запустил двигатель, и автомобиль, дребезжа, покатился. Это был какой-то старый санитарный автомобиль не то английской, не то американской марки. Дюжие спины охранников скрыли Мао Цзэдуна.
12 мая.
Вечером меня, Орлова, Риммара и Алеева пригласили к Мао Цзэдуну. Он принял нас в своей пещере, отрытой в узеньком ущелье подле речки, но гораздо выше её уровня. Сейчас, не в сезон дождей, речка смахивает на захудалый ручей — её переходят по камням. Местечко, где отрыта пещера Мао Цзэдуна, рядом с городом и называется Яньцзя-лин. Пещера и подступы к ней под охраной рослых маузеристов.
С Мао Цзэдуном были Кан Шэн и члены Политбюро. После обычного обмена любезностями Мао Цзэдун без обиняков приступил к выяснению положения на советско-германском фронте. Его особенно интересовала прочность нашего фронта. Мы постарались ответить на все вопросы. Мао Цзэдун заявил нам, что КПК верна пролетарскому интернационализму, политике единого антияпонского фронта и лояльно сотрудничает с гоминьданом.
— Учение Сунь Ятсена выражается в трёх принципах: национальная независимость, демократические свободы, народное благосостояние,— поучающе заметил Мао Цзэдун.— Все эти принципы отца китайской революции — священная часть нашей партийной программы…
Он рассеянно порылся в карманах куртки, достал смятую пачку сигарет. Не спеша закурил. Сигареты — американские «Честерфилд».
— Главное — поддержка народа,— сказал Мао Цзэдун.— С врагами можно воевать и без техники — палками и камнями. Следует лишь заручиться поддержкой масс, иначе народ нас не поддержит.
Жилище Мао Цзэдуна — это две смежные пещеры, добротно обшитые тёсом. В глубине пещеры — письменный стол. На столе несколько книг, кипа бумаг, свечи. Пол выложен кирпичом. Мао Цзэдун сутуловат, глаза окружены морщинками, говорит на грубоватом хунаньском диалекте. В нём чувствуется деревенская натура.
Официальная часть приёма закончилась обещаниями Мао Цзэдуна всячески содействовать нашей работе, похвалами мудрости товарища Сталина и коминтерновскому руководству.
…Когда стемнело, охранники запалили свечи. На стенах замелькали уродливые тени.
Мао Цзэдуну подали бутылку голландского джина. Нас угостили ханжой (гаоляновый самогон). Мао Цзэдун обошёл нас, снова любезно интересуясь здоровьем. Он в том же поношенном даньи, в руках кружка с джином. Прихлёбывая джин и закусывая земляными орешками, он подробно расспрашивал о здоровье Сталина и Димитрова.
…От выпитого джина Мао Цзэдун раскраснелся, лицо увлажнилось потом. Однако выдержка его не покинула: всё то же сознание собственного достоинства.
Курит Мао Цзэдун почти непрерывно.
…Цзян Цин завела патефон. Пластинка за пластинкой звучали отрывки из старинных китайских опер.
Мао Цзэдун притих в шезлонге, затягиваясь дымом и небрежно стряхивая пепел на пол. Мы поняли это как сигнал об окончании приёма. Дружно поднялись и распрощались с хозяевами. Мао Цзэдун проводил нас до выхода. Пожимая мне руку, он несколько раз повторил, что рад нашему приезду, ценит деятельность и заботу Коминтерна и товарища Сталина и окажет нам помощь в работе.
26 мая.
В каскаде нынешних речей Мао Цзэдуна навязчиво прослеживается одна мысль: нельзя следовать чужим мнениям. Мысль по форме верная, а по существу направлена на отрицание идейной ценности революционной философии…
Моё мнение основывается на выступлении Мао Цзэдуна 1 февраля 1942 года об упорядочении стилей в работе партии. Он, в частности, говорил:
«…С каким бы явлением ни столкнулся коммунист, он должен поставить перед собой вопрос „почему“, должен всесторонне продумать его самостоятельно, должен подумать, отвечает ли оно требованиям действительности, разумно ли оно на самом деле; ни в коем случае нельзя следовать за другими, проповедовать рабское преклонение перед чужим мнением…»;
«…Как же связывать марксистско-ленинскую теорию с практикой китайской революции? Это можно пояснить общеизвестным выражением: „пускать стрелу, имея перед собой цель“. Когда ты пускаешь стрелу, нужно иметь перед собой цель. Взаимосвязь между марксизмом-ленинизмом и китайской революцией подобна взаимосвязи между стрелой и целью. А вот некоторые товарищи „пускают стрелу, не имея цели…“».
29 июля.
Председатель ЦК КПК отзывается о советских руководителях пренебрежительно. Так, об И. В. Сталине, не скрывая презрения, заявил: «Он не знает и не может знать Китая, однако лезет обо всем судить. Все его так называемые положения о нашей революции — вздорная болтовня. И в Коминтерне болтают то же самое
».
30 августа.
Вечером Мао Цзэдун пригласил меня и Алеева. Это было необычное приглашение — без сухости официальных церемоний.
У Мао Цзэдуна наряду с манерой держаться неприступно есть и другая, уже чисто китайская черта. Он вежливо расспросил нас о здоровье, нуждах, усадил меня в кожаное кресло, обычное место для почётных гостей, потом сам принёс рис, ханжу и чай. Цзян Цин придвинула шезлонг, и он разлёгся рядом. Охранник подал ему кружку с ханжой, а Цзян Цин высыпала ему на ладонь земляные орешки.
На наш вопрос о вероятности нападения японцев на СССР, об отношении КПК к этой войне Мао Цзэдун рассеянно заметил: «Мы, конечно, проведём операции против японцев
».
Вопрос пришёлся ему не по душе. Раздражение Мао Цзэдун скрыл блуждающей улыбкой. И стал разъяснять нынешние задачи КПК:
«Всё, что не соответствует сплочению,— подлежит уничтожению. Мы должны отгонять от себя самодовольство и изживать нездоровый стиль. Проверка кадров необходима. И судить кадры будем по всей работе в целом».
…Мао Цзэдун внезапно смолк и распорядился подать перец. Мы поняли, что официальная часть закончена. Мао Цзэдун показал на меня, и мне первому подали тарелку красного перца. Такую же тарелку подали Мао Цзэдуну.
Мао Цзэдун поглощал перец и, потягиваясь в шезлонге, выпытывал у меня:
«Сталин — революционер? А любит красный перец?.. Настоящий революционер обязательно ест красный перец…— Он отхлебнул из кружки и заметил: — Александр Македонский наверняка обожал красный перец. Он великий человек и революционер в своём деле. И Сталин, конечно, ест перец. Ешь и ты. Давай, если ты революционер…».
Мао Цзэдун, не морщась, закладывал в рот стручок за стручком, сдабривая их глотками ханжи. Оказывается, стручки нужно класть не на язык, а глубоко в горло и заглатывать. Надо отдать должное: пьёт он изрядно и не теряет контроля над собой.
…Вскоре лицо Мао Цзэдуна стало красным, как перец на наших тарелках.
Через полтора часа Мао Цзэдуна разморило. Позёвывая, он во весь рост вытянулся в шезлонге. Цзян Цин поставила пластинку с записью старинной китайской оперы. Мао Цзэдун одобрительно кивнул и стал размеренно хлопать в такт музыке. И так медленно похлопывая в ладоши, стал придрёмывать…
27 октября.
Мао Цзэдун всё более груб со своими оппонентами. Когда в споре один из них сослался на статью Сталина, Мао Цзэдун крикнул: «Вы, „москвичи“, если Сталин даже испортит воздух, готовы нюхать и восторгаться!
».
А перед нами Мао рассыпается в похвалах Сталину. И тоже не без умысла. В расчёте, что я передам это в Москву. Ведь расположение Сталина сулит Мао Цзэдуну немалые выгоды в будущем.
1943 год.
17 января.
На новогоднем собрании актива Мао Цзэдун заявил:
«…Нынешнее руководство КПК считает былые партийные чистки в ВКП(б) ошибочными. Необходимы „духовные чистки“, которые проводятся нынче в Особом районе».
28 апреля.
Сила Мао Цзэдуна не только в том, что он не пренебрегает никакими приёмами в этой борьбе, но и в доскональном знании психологии китайского крестьянства, мелкого буржуа, обычаев и нравов народа, чего нельзя сказать о членах «московской группы» — слишком часто чистых теоретиках, пусть искренне преданных революции.
Демагогия Мао учитывает национальные особенности — и поэтому гибка, ловко спрятана и гораздо доходчивее. Мао бередит изболевшееся под иностранным гнётом национальное чувство. Одновременно он спекулирует на популярности марксизма-ленинизма.
20 мая.
Мао Цзэдун обычно работает ночами. Встаёт поздно, к полудню. По натуре честолюбивый. Поэтому, наверное, напускает на себя этакую многозначительность… Он старательно создаёт о себе представление как о мудром правителе в традиционно китайском духе.
23 сентября.
Мао Цзэдун снисходительно относится ко всему некитайскому. Для него своё, национальное,— безусловная вершина мировой культуры, так сказать, истина в последней инстанции.
Его настольные книги — набор китайских энциклопедических словарей, древние философские трактаты и старинные романы.
29 сентября.
Мао Цзэдун равнодушен к сыновьям, которые учатся в Советском Союзе. Никто из нас не помнит, чтобы он упомянул имя одного из них или поинтересовался здоровьем. Впрочем, и маленькая дочь мало его трогает, а если и трогает, то благодаря стараниям супруги, которая всячески оживляет в нём атрофированные отцовские чувства.
10 октября.
Цзаоюань — резиденция Мао Цзэдуна. Никто в Яньани не знает, что она собой представляет. В нескольких шагах от сада, в склоне горы — жилище Председателя ЦК КПК — самое надёжное бомбоубежище со многими тайными галереями, выходящими в ближайшие глухие ущелья.
Неподалёку от речки Яньшуй, в тени персиковых деревьев за лёссовой стеной и под охраной маузеристов Председатель ЦК КПК вольготно коротает досуг.
В Цзаоюань даже ближайшие сподвижники Председателя ЦК КПК не являются запросто. В Цзаоюань вызывают. Никто не смеет потревожить председателя Мао без его ведома.
1944 год.
4 января.
Неожиданно получил приглашение Мао Цзэдуна послушать с ним вечером старинную китайскую оперу.
Пришёл пораньше с расчётом на путь в Яньцзялин. Мао и Цзян Цин уже ждали. После обмена любезностями двинулись в Яньцзялин.
Мао был в своей обычной одежде. Войлочные туфли, ватные зимние штаны, грубая куртка, чёрный свитер поверх белой рубахи, заношенная, видавшая виды шапка-кепи с поднятыми вверх наушниками, отчего она сильно смахивала на колпак. Куртка и штаны изрядно измяты.
Мао держался просто. Он умеет, если нужно, держаться просто, подкупающе просто. Умеет расположить к себе. Рукава его куртки длинноваты. Он грел в них руки, как в муфте. Крылья длинных волос выбивались из-под колпака на виски. Он рассеянно прятал их, они снова выбивались.
Никого не было, кроме охранников, шагавших в отдалении.
Во время спектакля Мао был сосредоточен, но любезен… Цзян Цин много рассказывала мне о театре, актёрах. Мао щурился, разглядывая зал. У него привычка щуриться…
29 февраля.
Мао Цзэдун в беседах частенько ссылается на примеры из китайской истории…
Он нередко оставляет тему разговора и переключается на другую, потом на третью, вновь возвращается к предыдущей, вдруг перескакивает на новую и опять возвращается к старой теме, словно рассуждая сам с собой.
Порой неожиданно спрашивает мнение, но ответ предпочитает короткий. Если собеседник начинает развивать свою мысль, он поначалу внимательно слушает и не возражает, но вскоре разговор непременно обрывает… Мне он несколько раз жаловался, что после «говорливых собеседников» утомлён и скверно себя чувствует, особенно с малознакомым собеседником.
2 марта.
Мао Цзэдун неоднократно подчёркивал мне, что слова китайца — это одно, а его дела — совершенно другое. И всякий раз с улыбкой наблюдал за эффектом своих слов…
13 марта.
Я пришёл к Мао Цзэдуну в назначенный час. Он расхаживал по кабинету, поглядывая на ряд листков, прикреплённых к стене. Это его манера обдумывать статью или выступление. Он пишет, а потом вывешивает листки и день-другой поглядывает на них, внося в текст исправления…
Мао Цзэдун поздоровался со мной, поздравил с успехами нашей Красной Армии.
В это время слуга (а как его ещё назовёшь) внёс таз с полотенцем. Мао Цзэдун отжал полотенце в горячей воде и с видимым удовольствием стал прикладывать его к лицу. Типично восточный туалет. При этом Мао Цзэдун не переставал обмениваться со мной новостями.
10 мая.
Мао Цзэдун болезненно реагирует на стрельбу. Вчера я пристрелил во дворе бешеную собаку, изодравшую нашу Машку. Незамедлительно явился один из телохранителей Председателя ЦК КПК и передал его категорическую просьбу не стрелять. Телохранитель выразился так: «Председатель Мао очень взволнован и прервал работу
».
30 мая.
Мао Цзэдун роль «народного вождя» выдерживает до мелочей. При всяком неуважении к себе сурово одёргивает и никому не позволяет подшучивать над собой.
3 августа.
А Мао меняется… То ли берут своё годы, то ли усталость, то ли одиночество, которое становится его потребностью. Но досуг его — преимущественно в одиночестве.
12 августа.
Сегодня, пригласив меня, Мао Цзэдун заявил:
«Мы подумываем о том, чтобы переименовать нашу партию. Именовать её не Коммунистическая, а как-то по-другому. Тогда для Особого района сложится более выгодная обстановка, особенно среди американцев…».
13 августа.
Узнать что-либо из биографии Мао Цзэдуна, кроме обкатанной официальной версии,— невозможно. Он ни с кем и никогда не делится воспоминаниями о своей молодости, увлечениях, привязанностях.15 На эту тему наложено категорическое табу. Есть официальная биография, которую каждый должен изучить для «укрепления революционного духа».
8 октября.
Во время последней беседы Мао Цзэдун настоятельно советовал мне не гнушаться восточной хитростью и учиться хитрости у китайцев…
16 декабря.
Характерный жест Мао: сощурясь, кончиками пальцев потирает лоб…
1945 год.
14 января.
Мао вышел со мной из своего жилища. Вечерело. Дымка смазывала в долине очертания полей, домиков, дорог, фигурки людей.
Мы молча смотрели на зарю, тёмные скалы, нависшие над долиной, кустарник, обелённый инеем.
Мао, вдруг позабыв о предмете нашего разговора, стал читать стихи. Он читал их медленно, глуховато, со вкусом, повторяя понравившиеся сравнения. Он неравнодушен к символике восточной поэзии. Он, казалось, позабыл обо мне и о часовых…
11 февраля.
Опрометчиво утверждать, будто Мао Цзэдун малосведущ. Он досконально изучает материалы по Востоку. Лично перерабатывает множество отчётов, документов, донесений, фронтовых сводок. По актуальным китайским вопросам его осведомлённость исчерпывающа. В сфере духовных интересов для него существуют лишь китайская культура и китайская история.
26 февраля.
Любопытна последняя беседа с Мао Цзэдуном. В этот раз без джина, виски и шума гостей. Разговор шёл о каких-то мелочах, потом Мао незаметно перекинулся на рассуждения о смерти, неизбежности смерти, неотвратимости судьбы. В таких ситуациях лучше слушать. В противном случае он замыкается и, сохраняя приветливость, будет ждать, пока ты не уйдёшь. Он любит, чтобы его слушали. Возражения глубоко задевают его, хотя внешне он этого не проявляет. Вежливо расстанется, но запомнит всё!..
Мао вслух размышлял о бренности бытия, бессмертии. Мысль о смерти угнетает его. Увлёкшись, он цитировал Конфуция, древних авторов и поэтов, приводил строфы собственных творений…
Он размяк и в то же время разгорячился. И следа не осталось от его восковой монументальности. Он говорил быстро, хрипловато выкрикивая ударные слоги. И жестом выставлял всех, кто пытался войти.
Он задавал мне вопросы и тут же, не дожидаясь ответа, развивал свои мысли. Временами казалось, что он забыл обо мне.
Нетерпеливо шарил по карманам своего ватника. Закуривал. Затягивался жадно, глубоко. Улыбался рассеянно. Сигарета дотлевала. Он вытаскивал новую. Оторвалась пуговица. Он досадливо пнул её ногой.
Потом повторил свой вопрос. Но я, к сожалению, не знал этого древнего изречения. Мао ждал ответа и смотрел на меня. В блестящих влажных глазах возбуждение, страсть… Он не пытался поймать меня на незнании. Нет, он просто был поглощён ходом мысли.
Что я мог ответить? Я пожал плечами и признался, что не знаю, но буду знать, ведь мне не так много лет, успею прочесть кое-что…
«Но,— заметил я,— в поселковой школе ещё до революции на уроках Закона Божьего нас просвещали по части Священного писания. Так, в писании о смерти сказано: „…ибо прах ты и во прах возвратишься…“».
Мао усмехнулся и швырнул сигарету на пол.
На прощание он вдруг спросил:
«Неужели вы не приглядели здесь ни одной милой женщины? Не стесняйтесь на этот счёт…».
Я отделался шуткой.
13 марта.
Мао может часами сидеть в кресле, не выражая никаких чувств. Следуя традициям, он представляет собой поглощённого заботами государственного деятеля. Он «занят великими проблемами, всё суетное, земное не может отвлечь…».
Я думаю, что в начале своей деятельности Мао Цзэдун сознательно вырабатывал в себе эти качества, они не были его собственным выражением. Однако годы работы над собой сделали их частью его характера. Того характера, который должен представлять в глазах народа подлинно государственного мужа великой Поднебесной…16
Сталин и Мао слушают… друг друга
…Чан Кайши в опубликованном 1 января 1949 года новогоднем послании выступил с идеей заключения перемирия между КПК и гоминьданом. Советскому Союзу, США и Англии он предложил выступить посредниками. И это в тот момент, когда Народно-освободительная армия вела по всему фронту успешное наступление на деморализованные войска гоминьдана. Генералиссимусу Чан Кайши, как воздух, нужна была хотя бы временная передышка.
Как ни странно, Сталин заглотнул эту наживку и лично написал пространнейшую, со всех сторон обоснованную телеграмму, которую в январе по радио передавали два дня — 10 и 11 января. Суть же телеграммы сводилась к тому, чтобы направить Чан Кайши такой ответ:
«Советское правительство стояло и продолжает стоять за прекращение войны и установление мира в Китае, но, раньше чем дать согласие на посредничество, оно хотело бы знать, согласна ли другая сторона — китайская компартия — принять посредничество СССР».
Мао Цзэдун ответил сразу же, 13 января. Он предложил И. В. Сталину сообщить Чан Кайши о том, что Советский Союз всегда желал и желает видеть Китай мирным, демократическим и единым. Но каким путём достичь мира, демократии и единства Китая — это собственное дело китайского народа. Правительство же СССР, основываясь на принципе невмешательства во внутренние дела других стран, считает неприемлемым участие в посредничестве между обеими сторонами в гражданской войне в Китае. Вождю народов преподнесли нравоучительный урок. Но это было исключением из правила. А правило, которого строго придерживался Председатель КПК, состояло в следующем: каждую телеграмму на имя вождя народов он заканчивал словами — циньчжи (прошу указаний).
…Как раз в тот момент, когда Чан Кайши предлагал Мао Цзэдуну заключить военное перемирие, Народно-освободительная армия КПК стояла перед дилеммой: брать ли Пекин штурмом со всеми связанными с этим потерями в живой силе и разрушениями в городе или попытаться «ударить по рукам» с генералом Фу Цзои, командующим 300-тысячной армией, оборонявшей Пекин? В конце концов, сработал второй вариант. И Народно-освободительная армия вошла в древнюю столицу без единого выстрела.
Мао Цзэдуна же всё это время волновали не только вопросы, касавшиеся чанкайшистской инициативы с перемирием и захвата Пекина. Своих соратников по ЦК КПК он поочерёдно озадачивал рассуждениями явно зондирующего характера.
«Когда в молодости я читал древние романы,— говорил он,— то часто думал: как это необыкновенно здорово — быть императором! Но неизвестно было, как можно стать императором. Теперь понятно. Скоро мы въедем в Пекин. Ведь как только мы въедем в Пекин, я стану императором, не так ли?».
Нетрудно догадаться, какой ответ он рассчитывал услышать. Но не услышал. Ни от кого. Тем не менее, от мысли этой не отказался: вскоре после вступления в Пекин по его личному приказу Политуправление военного совета ЦК КПК официально организовало во всех подразделениях НОА серию докладов на тему о том, что «председатель Мао является императором в новых исторических условиях». Результат оказался нулевым. Но он ещё более проникся этой идеей.
Как её осуществить? И осуществима ли она? Как сложится дальше его судьба? Вопросы… вопросы… вопросы. Кто способен ответить на них?
Мао Цзэдуну, по его личной просьбе устраивают приватную встречу с одним из авторитетнейших даосов-отшельников. Она проходит под покровом глубочайшей тайны. Председатель КПК говорит как на духу. Даос молча выслушивает его, закрывает глаза, задумывается на мгновение и тихо произносит: «Ба, сань, сы, яо» — «8—3—4—1». И больше ни слова. Мао Цзэдун расстроен. Ожидал ясных ответов, а услышал нечто вроде головоломки, без малейшего намёка на то, как разгадывать её. Но мудрец ограничился тем, что уже сказал.
21 сентября 1949 года, выступая в Пекине перед делегатами сессии Народного политического консультативного совета Китая, Мао Цзэдун громогласно провозгласил: «Китайский народ, составляющий четвертую часть человечества, отныне выпрямился во весь рост
». Председатель Коммунистической партии Китая не обмолвился ни единым словом ни о марксистском учении или хотя бы о своём детище — «китаизированном марксизме», ни о влиянии этого учения на национально-освободительную борьбу китайского народа. Главная цель его выступления состояла в том, чтобы показать, что он, именно он, вновь объединил китайскую нацию в единое государство, как это сделал когда-то Цинь Шихуан. Эту роль объединителя он затвердил 1 октября 1949 года, когда с трибуны Тяньаньмэня торжественно провозгласил: «Китайская Народная Республики создана! Отныне китайский народ встал во весь рост!
».
На трибуне рядом с Мао Цзэдуном находились не только его ближайшие сподвижники по партии, но также представители китайской национальной буржуазии и даже влиятельные руководители хуацяо — многочисленных, разбросанных по всему земному шару общин китайских эмигрантов. Картина была глубоко символичная, но далёкая от коммунистических идеалов.
…Утром 16 декабря 1949 года, спустя всего лишь два с половиной месяца после провозглашения КНР, Мао Цзэдун прибыл на специальном поезде в Москву.
Идея этого визита родилась у него ещё в апреле 1948 года. Тогда он написал И. В. Сталину о том, что готов прибыть в Первопрестольную и предстать перед вождём народов. Мао не знал, каким будет ответ. Во многом это был тщательно продуманный им зондирующий жест. Председатель КПК прекрасно понимал, что у Сталина нет недостатка в причинах быть недовольным им, в частности тем, что произошло в Цзуньи, а затем в Яньани, где он покончил с «московской группой» во главе с Ван Мином. Наконец, Сталин не мог не понимать, что скрывается за «китаизацией» марксизма-ленинизма. Да мало ли что можно было инкриминировать вождю китайских крестьян?! Мао Цзэдуну было известно, что Сталин называет его «редиской» — то бишь «красным снаружи и белым изнутри»17. Впрочем, вождь народов окрестил так не только Мао Цзэдуна, но и многих других руководителей КПК. Одним словом, Председателю КПК было отчего испытывать волнения и тревоги. К тому же он ни разу не выезжал за пределы Китая.
Ответ Сталина пришёл как раз в момент форсирования реки Янцзы подразделениями Народно-освободительной армии. Сталин писал:
«Вам не следует спешить с поездкой в Москву. Вы не можете оставить сейчас Китай и руководство делами в связи со сложностью обстановки на Юге и в связи с тем, что Китай, по существу, не имеет правительства, а это сопряжено с определённой опасностью для дела революции».
Далее в телеграмме давались советы по части организации и принципов работы будущего правительства.
Содержание телеграммы Сталина не оставляло сомнений в том, что Москва признаёт Мао Цзэдуна вождём китайской революции. И это было самым главным для Председателя КПК. Он услышал то, что надеялся услышать. Поэтому прочитав телеграмму, он возликовал, провозгласив в полный голос троекратное «Сталин тунчжи, ваньсуй!» («Десять тысяч лет товарищу Сталину!»).
«…Заблуждения подобны фальшивым деньгам: изготовляют их преступники, а распространяют порой самые честные люди». Эту, кажется, французскую пословицу вполне можно применить к тому, как визит Мао Цзэдуна в СССР был преподнесён мировой общественности противниками советско-китайского сближения. С их недоброй руки были запущены в обиход многочисленные байки о том, что, мол, в Москве китайского руководителя встретили весьма прохладно, что Сталин долго не принимал его, проявляя тем самым своё недовольство, что, наконец, Мао Цзэдун находился в Москве под домашним арестом. К сожалению, свою толику в подобные измышления внёс тогда государственный секретарь США Д. Ачесон. В действительности же всё было с точностью до наоборот.
На приграничной с Китаем станции Маньчжурия Мао Цзэдуну был предоставлен специальный поезд, в котором его до самой Москвы сопровождали зам. министра иностранных дел СССР А. И. Лаврентьев, представители протокольного отдела МВД, посол СССР в КНР Н. В. Рощин, руководитель группы советских специалистов в Китае И. В. Ковалёв. На Ярославском вокзале, куда спецпоезд прибыл утром 16 декабря, Мао Цзэдуна встречали В. М. Молотов, А. И. Микоян, Н. А. Булганин и незадолго до этого назначенный министром иностранных дел А. Я. Вышинский. В распоряжение высокого гостя была предоставлена Дача Сталина в Усове. Вождь народов принял Мао Цзэдуна через шесть часов после его прибытия в Москву.
«Встреча была дружелюбной. Оба лидера прошли навстречу друг другу по ковровой дорожке. Мао заключил в свои ладони протянутую руку Сталина, который второй рукой накрыл руки гостя.
— Здравствуйте, товарищ Сталин,— с нескрываемым волнением произнёс Мао Цзэдун. Он долго тряс руку Сталина, его лицо светилось радостью.
— Рад вашему приезду, товарищ Мао Цзэдун,— негромко произнёс Сталин. Он тоже был возбуждён, и, задержав взгляд на лице гостя, добавил: — А вы выглядите моложе и крепче, чем я полагал».
Такими запечатлелись в памяти М. С. Капицы первые минуты встречи лидеров СССР и КНР.
В беседе с Мао Цзэдуном вождь народов высказался за то, чтобы сохранить Договор о дружбе и союзе, подписанный Советским Союзом и чанкайшистским Китаем 14 августа 1945 года, внеся в него две-три поправки. Мао Цзэдун предложил заключить новый договор.
После встречи Сталин звонил Мао Цзэдуну по телефону, обсуждая то одни, то другие вопросы двусторонних отношений. Интересовал его, между прочим, вопрос, кто подпишет договор. Сталин, чувствовалось, хотел, чтобы договор подписали два лидера. Ему и в голову не приходило, что, по китайским понятиям, не императорское это дело. Его лишь несколько удивило, почему Мао Цзэдун уклонился от ответа.
В торжественной обстановке в присутствии И. В. Сталина и Мао Цзэдуна 14 февраля министрами иностранных дел СССР и КНР — А. Я. Вышинским и Чжоу Эньлаем соответственно — был подписан Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР и КНР.
11 апреля при ратификации договора и пакета двусторонних соглашений Мао Цзэдун заявил, что «они дали нам надёжного союзника
», «облегчили нашу работу в области внутреннего строительства и совместного противодействия возможной империалистической агрессии
».
Французский журналист Мариус Маньян провёл в Китае четыре месяца — лето и начало осени 1950 года. Он стал первым из иностранных корреспондентов, беседовавшим с Мао Цзэдуном после провозглашения Китайской Народной Республики.
«Это было 20 июня 1950 года. В тот день я осматривал государственное хозяйство в окрестностях Пекина. С большим интересом наблюдал я работу советских комбайнов, которые убирали и молотили пшеницу на огромном ровном поле. Вдруг меня позвали. У ворот меня ожидал автомобиль. Это была правительственная машина: меня приглашал к себе председатель Мао Цзэдун!
…Мы только что вошли в приёмный зал здания, занимаемого председателем в бывшем Запретном городе императоров; в зале — глубокие кресла, обшитые темной кожей, низкие столы, покрытые стеклом, украшенная тонкой резьбой мебель. Мы беседовали с генералом Чжу Дэ, Лю Шаоци и Чжоу Эньлаем, прихлёбывая чай, пахнувший цветами жасмина. В зал вошёл довольно высокий, хорошо сложенный, плотный человек. Помня виденные мною фотографии и картины, я сразу же узнал в нём Мао Цзэдуна.
Однако Мао Цзэдун в жизни несколько отличается от своих изображений на портретах. Первое, что бросается в глаза, это его широкий и очень высокий люб цвета слоновой кости, над которым лежат непокорные чёрные волосы. Затем — глаза, слегка раскосые, глядящие прямо в ваши глаза и как бы читающие ваши мысли. Затем — правильный рот с чётко очерченными губами, произносящими всегда продуманные короткие фразы. Его вопросы, как и объяснения, всегда точны. Родинка на подбородке придаёт особое обаяние этому лицу, от которого веет острым умом, твёрдой волей и добротой. Фотографии не могут в полной мере отразить целеустремлённость, молодость и сдержанное воодушевление, запечатлённые на лице этого человека, думающего о будущем 475 миллионов людей.
За обедом я сидел по левую руку от Мао Цзэдуна. Он часто обращался ко мне. Я не испытывал в разговоре с ним никакого стеснения, а напротив, всё время чувствовал уверенность, что меня слушают, что обращённые ко мне слова выражают полную искренность главы китайского государства, что его вопросы требуют столь же искренних и прямых ответов.
Как все китайцы, Мао Цзэдун любит провозглашать тосты, и самым глубоким чувством в этот незабываемый вечер был проникнут его тост за французский народ…
Я заметил, что Мао Цзэдун много курит, главным образом маньчжурские сигареты.
Весёлый смех Мао Цзэдуна свидетельствует о его чистосердечии. Он смеялся, когда слышал меткий ответ, когда мы рассказывали ему, что нас поражает и удивляет в его стране, смеялся, когда говорил о поражении, которое США потерпели в Китае!».18
И один в поле воин
‹…›
Вся обширная территория Срединного государства оказалась в скором времени покрытой сетью тайных агентов Мао Цзэдуна. Они внедрились в партийные, государственные армейские и прочие структуры. От них председатель черпал самую свежую, непричёсанную информацию о положении в стране и её отдельных регионах, о настроениях простых китайцев и периферийного руководства. Он был в курсе всего и вся. И был уверен, что тайная армия готова выполнить любой его приказ.
Когда летом 1966 года в Китае разразилась словно девятибалльный шторм «великая пролетарская культурная революция», многие наблюдатели недоумевали, как это юнцы-хунвэйбины, студенты и школьники, согласовывают, а зачастую прямо синхронизируют свои действия в масштабах всей страны. Бросалось в глаза, что выдвигавшиеся в разных регионах лозунги и призывы «маленьких генералов Мао» выглядели написанными под копирку. В первые месяцы «культурной революции» никому и в голову не приходило, что хунвэйбины — всего лишь марионетки в умелых руках выпускников в/ч № 8341.
…С 15 по 27 сентября 1956 года, через 11 лет после Ⅶ яньаньского съезда в Пекине состоялся Ⅷ съезд Компартии Китая. В своём вступительном слове Мао Цзэдун, говоря о ⅩⅩ съезде КПСС, ни единым словом не упомянул о культе личности Сталина. «На состоявшемся недавно ⅩⅩ съезде КПСС были также выработаны многие правильные политические установки и подвергнуты осуждению недостатки в партии
»,— заявил он по этому поводу. Выступивший с политическим отчётом Лю Шаоци высказался более конкретно: «Состоявшийся в феврале текущего года ⅩⅩ съезд Коммунистической партии Советского Союза является важнейшим политическим событием, имеющим мировое значение. Съезд… осудил культ личности, который привёл к серьёзным последствиям внутри партии…
»
Точки над «i» поставил Дэн Сяопин в докладе об изменениях в уставе партии:
«…Культ личности как общественное явление имел длительную историю, и он не мог не найти некоторого отражения в нашей партийной и общественной жизни. Наша задача состояла в том, чтобы решительно продолжать проводить в жизнь курс ЦК, направленный против выпячивания личности, против её прославления… Одна из важнейших заслуг ⅩⅩ съезда КПСС заключается в том, что он раскрыл перед нами, к каким серьёзным отрицательным последствиям может привести обожествление. Наша партия всегда считала, что в деятельности любой политической партии и любой личности не может не быть недостатков и ошибок… Поэтому наша партия также отвергает чуждое ей обожествление личности».
Съезд вычеркнул из устава КПК все упоминания об идеях Мао Цзэдуна как идейной основе партии (это было внесено в устав на Ⅶ съезде в Яньане). В новом уставе КПК, одобренном на Ⅷ съезде, однозначно утверждалось:
«Коммунистическая партия Китая в своей деятельности руководствуется марксизмом-ленинизмом. Только марксизм-ленинизм правильно объясняет закономерности развития общества, правильно указывает пути построения социализма и коммунизма».
Такова была коллективная воля реалистически мысливших членов Политбюро.
«В 1956 году, на Ⅷ съезде партии,— вспоминал впоследствии Пэн Дэхуай,— я предложил изъять из устава всякие ссылки на идеи Мао Цзэдуна. Едва я успел выговорить эти слова, как Лю Шаоци поддержал предложение: „Верно, хорошо было бы всё снять!“»
Но это было не всё. Мао Цзэдуну были предъявлены обвинения в нарушении партийной дисциплины, в частности систематическое нарушение партийных решений о сроках созыва форумов руководящих органов КПК. Следует, правда, отметить, что в строгом соответствии с конфуцианским постулатом о «сохранении лица» Дэн Сяопин, осуждая «чуждое партии обожествление личности
», тут же добавил, что ещё в марте 1949 года «по предложению товарища Мао Цзэдуна
» было принято решение запретить празднование юбилеев партийных и государственных руководителей и присвоение их имён улицам, предприятиям и т. д. Мао, таким образом, сохранял своё лицо.
Оказавшись в меньшинстве на Ⅷ съезде КПК, Мао Цзэдун не сдавался. Уже на Ⅱ пленуме ЦК КПК 15 ноября 1956 года он выступил с призывом, «используя те же методы, которые применялись для исправления стиля в работе партии19, бороться с уклонами субъективизма, сектантства и бюрократизма
». Одновременно он требовал продолжать внедрение «китайских методов» строительства социализма.
27 февраля он выступил на Верховном государственном совещании с программной теоретической речью «К вопросу о правильном разрешении противоречий внутри народа» месяц спустя на совещании по пропагандистской работе обосновал необходимость развернуть новое движение «за исправление стиля», подобного движению 1942 года.
А 27 апреля в одобренных ЦК КПК «Указаниях о движении за упорядочение стиля» уже прямо говорилось о том, что партийные организации обязаны «в качестве идейного руководства
» брать оба доклада Мао Цзэдуна.
Ⅷ съезд КПК изъял из программных документов партии всякое упоминание об идеях Мао Цзэдуна. В ответ Мао Цзэдун принудил ЦК КПК дать указание партийным организациям использовать его выступления «в качестве идейного руководства
». Его выгнали в дверь — он пролез через окно.
Наконец, 10 мая 1957 года он «продавил» через ЦК КПК указание об участии руководящих работников в физическом труде, преподнеся это как «возрождение порядков военного коммунизма
», «военной традиции
». При этом он подчеркнул, что «вместо советского стиля
» необходимо внедрять «партизанский стиль и партизанские привычки
».
С конца 1957 года явочным порядком, без каких-либо решений высших партийных или государственных органов Мао Цзэдун начинает проводить в жизнь политику «большого скачка» и народных коммун, с тем чтобы на основе «теории перманентной революции» совершить «форсированный марш-бросок к коммунизму». Вопреки принятому на первой сессии Ⅷ съезда КПК второму пятилетнему плану он заявляет о том, что за пять лет (1958—1962), нужно увеличить промышленное производство в 6,5 раза, а сельскохозяйственное — в 2,5 раза.
В Поднебесной разворачивается невиданная по масштабам погоня за производственными рекордами. Реальное положение дел — не в счёт. Здравый смысл отбрасывается. Повсюду поощряются лишь повышенные встречные планы. Безумие поглощает не только промышленность и сельское хозяйство, но и науку, образование, литературу, искусство. В марте 1958 года секретариат Союза писателей КНР выступает с планом «Быстрого подъёма литературы», намереваясь «добиться в течение года бурного подъёма литературного творчества, с тем чтобы в предстоящие годы собрать обильный урожай социалистической литературы
». Прозаики, драматурги, критики и прочие представители умственного труда стали соревноваться в составлении личных планов «бурного творческого подъёма». В частности, Цзян Кэцзя, главный редактор журнала «Шикань» («Поэзия») «взял обязательно написать 20 поэтических произведений, в том числе историческую поэму, а также 15 произведений в прозе
».
В июне 1958 года по призыву Мао Цзэдуна началось массовое строительство кустарных «народных доменных печей», а также организация народных коммун.
«Битва за сталь» должна была дать стране в 1962 году 80—100 миллионов тонн стали вместо намеченных вторым пятилетним планом 10,5—12 миллионов тонн. Фантастические результаты должны были показать крестьяне — собрать 300—350 миллионов тонн зерновых, то бишь в 2,5 раза превысить уровень 1957 года.
Основные положения своей особой линии, шедшей вразрез с решениями Ⅷ съезда КПК, Мао Цзэдун изложил на прошедшем 17—30 августа 1958 года в Бэйдайхэ заседании Политбюро.
В частности, он заявил, что, исходя из того, что «зерновая проблема в основном уже решена
», следует бросить все силы на удвоение выплавки стали. Его очередной лозунг гласил: «Что бы ни случилось, превратим нашу страну за три-пять-семь лет в великую индустриальную державу!
».
Далее, напрочь отвергая принцип «каждому по труду», он выступил за создание «новых человеческих отношений», имея в виду возврат в партии, армии и прочих структурах к «военной демократии» яньаньского периода.
«В течение 22 лет вооружённой борьбы — вещал он,— мы всегда побеждали. Почему же нельзя действовать таким же образом в ходе коммунистического строительства?»
Концепция «новых человеческих отношений» предполагала уравнительное снабжение питанием и одеждой, натуральное, безденежное распределение на уровне удовлетворения элементарных потребностей человека, что именовалось «военным коммунизмом».
«Прежде солдаты не получали денег, не имели выходных, работали не по восемь часов,— излагал свою концепцию Мао Цзэдун,— руководители и подчинённые, офицеры и солдаты, армия и народ составляли единое целое. Это — коммунистический дух. И это очень хорошо.
Если сделать безденежным питание,— продолжал он,— Это вызовет огромные перемены… Примерно в течение десяти лет продукция станет весьма обильной, а мораль — необычайно высокой. И мы сможем осуществить коммунизм, начиная с питания, жилья и одежды».
Председатель говорил о необходимости вернуться в партийном и государственном аппаратах к системе пайкового довольствия кадровых работников, а ещё ликвидировать в армии звания и ранги.
Его концепция предполагала военизацию всего общества по образу и подобию Народно-освободительной армии Китая.
«Будет лучше,— утверждал он,— если рабочие и служащие будут жить в общих домах. Большие общие дома лучше, чем квартиры. Каждая коммуна построит себе шоссе, бетонную, асфальтированную дорогу. Если дорога не будет обсажена деревьями, тогда на ней могут разместиться и самолёты. Вот готов и аэродром. В будущем каждая провинция будет иметь сто-двести самолётов, в среднем по два на каждый район».
В духе своей концепции Мао Цзэдун выдвинул в Бэйдайхэ лозунги: «Военизация структур, боевизация деятельности, дисциплинирование жизни!
» и второй — «Положение, когда весь народ — солдаты, играет вдохновляющую роль, придаёт смелости!
».
Сразу же после заседания в Бэйдайхэ взялась за дело пропагандистская машина.
«Народная коммуна, с одной стороны, большая, с другой — общая. В ней много людей, много земли, масштаб производства тоже большой, все дела ведутся с размахом. В ней слиты производство и администрация, в едином порядке налаживается питание через общественные столовые, приусадебные участки ликвидируются. Куры, утки, отдельные деревья вокруг домов пока остаются в собственности крестьян. В будущем они перестанут быть их собственностью».
В начале 1958 года подавляющая часть 500-миллионного крестьянства Поднебесной была объединена в 740 тысяч сельскохозяйственных кооперативов, в каждый из которых входило в среднем 160 хозяйств. К концу же года вместо них в стране насчитывалось 26 тысяч народных коммун, размеры которых в среднем соответствовали волости или даже превышали её.
В рамках «большого скачка» на строительство и эксплуатацию «маленьких народных домен» было мобилизовано более 60 миллионов крестьян. Сельское хозяйство лишилось весьма внушительной и крайне необходимой ему рабочей силы.20
‹…›
Последний бой, он трудный самый
Громкие, устрашающего характера процессы с разоблачением «антипартийных групп», отстранение от власти то одних, то других достаточно влиятельных партийных и государственных деятелей, непрекращавшиеся кампании «чистки», «исправления стиля» и прочие составляющие «административного ресурса» председателя не принесли ему желанного перевеса в расстановке сил и возможности уверенно, без помех проводить в жизнь свой особый, по существу древнекитайский, патриархально-коммунистический курс. Позиции противостоявших ему реалистически мысливших партийных и государственных руководителей оказались достаточно сильны, чтобы не только критиковать его, но и сужать рамки его реальной власти.
О том, что сам Председатель КПК понимал это, лучше всего свидетельствует его оценка обстановки, сложившейся в высшем китайском руководстве после Ⅷ съезда КПК.
«Исходя из интересов государственной безопасности и уроков, которые можно извлечь из опыта Советского Союза, а также деятельности Сталина, наше руководство было разделено на первый и второй эшелоны. Я попал во второй эшелон, другие товарищи — в первый. Сейчас видно, что это был неправильный шаг… Находясь во втором эшелоне, я не занимался текущей работой, многие дела решались другими. И я способствовал росту авторитета других с тем, чтобы, когда я покину сей мир, в государстве не было волнений. Все приветствовали мою позицию. Но затем товарищи, находящиеся в первом эшелоне, не совсем хорошо решили некоторые вопросы».
О том, что он, Председатель КПК, далеко не всесилен, показало также и так называемое «дело У Ханя», известного китайского писателя и к тому же заместителя мэра Пекина Пэн Чжэня, влиятельного члена Политбюро.
Дело в том, что в сентябре-октябре 1965 года на рабочем совещании Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Мао Цзэдун потребовал развернуть политическую кампанию против У Ханя, поскольку тот в одном из своих произведений не прямо, но достаточно прозрачно раскритиковал политику «большого скачка» и, более того, открыто симпатизировал Пэн Дэхуаю. Однако в узком кругу особо высокопоставленных деятелей КПК требование Мао Цзэдуна не встретило понимания. Разгневанный председатель покинул столицу и отправился в Шанхай, к своим сподвижникам.
Вот как он описывает эту поездку:
«Началом „великой пролетарской культурной революции“ мы можем считать опубликованную зимой 1965 года статью Яо Вэньюаня с критикой пьесы „Разжалование Хай Жуя“. В это время в нашей стране ревизионисты настолько прочно закрепились в некоторых органах и районах, что даже ручеёк не мог протечь, травинка не могла прорасти… Тогда я предложил одному товарищу организовать публикацию статьи о пьесе „Разжалование Хай Жуя“. Только это нельзя было сделать в красном городе21. Мне ничего не оставалось, как поехать в Шанхай и там всё это организовать. В конце концов статья была написана. Я прочитал её три раза и, так как нашёл её в целом хорошей, согласился на то, чтобы соответствующий товарищ опубликовал её… После публикации статья Яо Вэньюаня была перепечатана большинством газет страны, но это не понравилось в Пекине… Затем я предложил издать статью Яо Вэньюаня в виде брошюры, но встретил сопротивление, поэтому брошюру издать не удалось».
В 1964 году Мао Цзэдун в одном из своих «высочайших указаний» высказался о том, что союзы работников литературы и искусства «в последние годы докатились даже до ревизионизма, и если не провести серьёзной перестройки, то они в один прекрасный день неизбежно превратятся в организации типа венгерского „Клуба Петефи“
».
Об этих замыслах председателя его оппоненты вспомнили в связи с «делом У Ханя». И чтобы ослабить его позиции на фронте борьбы с культурой, создали в конце 1965 — начале 1966 года «группу по делам культурной революции» при ЦК КПК в составе пяти человек. Возглавил группу Пэн Чжэнь. В феврале группа направила местным партийным комитетам инструкцию о том, каковы цели «культурной революции» и как следует её проводить. Критика У Ханя была представлена как образец научно-культурной критики, но не как политическая кампания.
Со стороны Мао Цзэдуна последовали контрмеры: в рамках военного совета ЦК КПК была сформирована другая «группа по делам культурной революции» во главе с Цзян Цин, супругой и верной соратницей председателя. Через две недели группа Цзян Цин разродилась программным документом по вопросам «работы в области литературы и искусства в армии».
7 мая 1966 года Мао Цзэдун направил Линь Бяо, сменившему Пэн Дэхуая на посту министра обороны, письмо с указанием превратить армию в «большую школу», где бы солдаты, помимо изучения политики, военного дела и культуры, занимались сельским хозяйством, кустарными промыслами и промышленной деятельностью «как для удовлетворения собственных потребностей, так и для обмена произведённой продукции на государственную продукцию». Мао требовал от министра обороны распространить военные формы организации на всё общество.
И вскоре армейская газета «Цзефанцзюнь бао» выступила с разъяснениями о том, что «большая дискуссия, развернувшаяся на культурном фронте, идёт вовсе не по поводу нескольких статей, пьес или фильмов, и это совсем не какая-то научная дискуссия, а чрезвычайно острая принципиальная классовая борьба в защиту идей Мао Цзэдуна
». Далее газета сообщала, что в партии есть люди, обладающие определённой властью и выдающие себя за верных последователей, преданных сторонников председателя Мао, а на деле «оказывают сопротивление» партийному руководству
» и, «используя имеющиеся в их распоряжении средства, занимаются антипартийными, антисоциалистическими преступными махинациями
».22
‹…›
«Красная императрица»
Когда я говорю, что председатель Мао допустил множество ошибок, я имею в виду также ту ошибку, которая называется Цзян Цин. Это очень, очень плохая женщина. Она настолько плоха, что всё то плохое, что говорится о ней, ещё недостаточно плохо, и если вы спросите меня, что я мог бы сказать в её оправдание, то я отвечу: ничего не могу. Для Цзян Цин нет никакого оправдания. Цзян Цин — это уже хуже некуда.
Дэн Сяопин
Когда Чжун Хуаминь и Артур Миллер, гонконгские эксперты по Китаю, или, как их там называли, first-class China-watchers (первоклассные наблюдатели за Китаем), решили написать книгу о Цзян Цин, то к своему величайшему удивлению обнаружили, что в «Китае нет ни одной официальной публикации, на которую можно было бы сослаться как на достоверный источник, чтобы назвать точную дату её рождения. В одних источниках указывается 1910 год, а в других — 191323
». Это представлялось им тем более странным и даже необъяснимым, что в стране бушевала инициированная Мао Цзэдуном «великая пролетарская культурная революция» и Цзян Цин играла в ней одну из ключевых ролей, была правой рукой «великого кормчего». Её называли «красной императрицей». Но никто толком не знал даже основных вех её биографии, в том числе дату её рождения. Её прошлая жизнь оставалась тайной. Почему? Что скрывалось за этим: чрезмерная скромность или что-то иное?
На протяжении всей своей жизни Цзян Цин лишь дважды позволила себе поделиться, причём с иностранцами, кое-какими воспоминаниями о своём детстве, семье, родителях, об учёбе.
Первый раз это случилось в декабре 1942 года в Яньани. Тогда в беседе с П. П. Владимировым, связным Коминтерна при ЦК КПК, она рассказала, что её первое имя — Ли Юньхэ, а артистическое — Лань Пин, что родилась она в 1912 году в городе Чжучэне провинции Шаньдун, в бедной семье, что отец умер рано, и мать нанялась в прислуги. Мать обожала дочь и на свой мизерный заработок сумела ей дать начальное образование. Семнадцати лет Цзян Цин поступила в шаньдунскую провинциальную школу под новым именем Ли Шуцзя. В 1929 году перешла в институт города Циндао с прочной мечтой о театральной карьере.
Из её последующих отрывочных воспоминаний, у П. Владимирова сложилось мнение, что свою карьеру Цзян Цин устраивала с помощью влиятельных покровителей. Так, с толстосумом Хуан Цзинем в 1934 году она переезжает в Бэйпин24, где после знакомства с Пэн Чжэнем включается в подпольную революционную деятельность. В пьесах современных китайских авторов играла роли бедных крестьянок. Затем с профессором шаньдунской театральной школы Вань Лайтянем следует в Шанхай. Профессор устраивает её в кинофирму «Мин Син» («Яркие звезды»). Она снимается в патриотических антияпонских фильмах. Прежде чем стать подругой Мао Цзэдуна, Цзян Цин сменила четырёх покровителей. И каждый был ступенькой вверх по лестнице общественного положения. «Эти сведения непроверенные и, возможно, неточные
»,— предупреждает П. Владимиров.
Второй раз «красная императрица» приоткрылась Роксане Уитке, профессору истории Нью-йоркского университета, синологу. 38-летняя американка приехала в Китай в надежде собрать материалы для своей научной работы о положении китайских женщин. Однако к ней неожиданно проявила интерес Цзян Цин. Их первая встреча, состоявшаяся в Пекине летом 1972 года, получила продолжение на юге Китая, куда Роксана Уитке была доставлена на специальном самолёте. Там, в окрестностях Гуаньчжоу, за первой беседой последовала вторая. Потом третья, четвёртая… Целая серия продолжительных бесед.
Такого не мог позволить себе ни один из высших руководителей Китая. Партия установила на это негласное табу. Исключением был лишь Мао Цзэдун, положивший глаз на Эдгара Сноу. Через него Председатель КПК регулярно оповещал мир о многочисленных перипетиях на своём жизненном пути о своих взглядах на мироустройство, разъяснял суть своих великих деяний и грандиозных замыслов. Теперь вторым исключением самовольно стала четвёртая жена председателя.
«Вы, наверное, слышали об Эдгаре Сноу,— обратилась Цзян Цин к американке.— Его книга о председателе Мао была очень популярной на Западе. Вы молоды, талантливы. Напишите обо мне — и станете вторым Сноу, к вам придут слава и успех».
Однако Цзян Цин не собиралась ворошить старое, копаться в собственном белье.
«Вас интересует моё прошлое? — начала она свою первую беседу.— Что ж, я постараюсь вкратце рассказать о нём.
Моё настоящее имя Ли Юньхэ. Я очень люблю его. „Юнь“ — это облака, а „хэ“ — журавль. Представляете, как это красиво: в голубоватой дымке облаков взмывает ввысь грациозная птица! В Китае в ходу поговорка: „Журавль всегда выше кудахтающих кур“. Так говорят о незаурядной натуре, выделяющейся среди серой массы…»
Кого она подразумевала под «незаурядной натурой», догадаться нетрудно. Сложнее объяснить, почему она ни словом не обмолвилась о фамильном иероглифе «Ли»? Откуда он взялся? Это фамилия отца?
«…Отчего я поменяла имя? Когда приехала в Шанхай искать работу, оказалась на киностудии. Там один из режиссёров дал мне псевдоним Лань Пин, но в иероглиф „пин“ случайно добавили лишнюю черту, и получилось „Голубое яблоко“. Забавно, не правда ли?
А когда я стала революционеркой и очутилась в Яньани, то выбрала себе моё нынешнее имя. „Цзян“— это „река“, а „цин“ означает цвет, близкий к голубому, только ещё более глубокий и насыщенный. Это мой любимый цвет. Раньше я всегда носила одежду голубых тонов. От бледного до иссиня-чёрного. Это изысканно и строго. Не правда ли?»
«…Я выросла в старом обществе,— продолжала Цзян Цин. — И моё детство иначе, как жалким не назовёшь. Когда я родилась, моему отцу вот-вот должно было стукнуть шестьдесят, а матери уже перевалило за сорок. Мы жили очень бедно. Питались впроголодь. Отец плохо относился к матери, не было дня, чтобы он не бил её. Доставалось и нам, мне и моим братьям и сёстрам.
Однажды, возвращаясь домой из школы, я увидела идущего навстречу пожилого китайца с коромыслом на плече. На концах коромысла болтались отрубленные человеческие головы. Они кровоточили, оставляя жуткий след на земле. В те времена рубили голову за малейшую провинность. И картина, которая предстала предо мной, считалась обыденной. Пожилой китаец, покачиваясь в такт вибрирующему коромыслу, спокойно прошёл мимо меня. А я была потрясена. Не помню, как добежала до дома. Бросила учебники на пол и, словно подкошенная, упала на кровать. Меня била дрожь, как в лихорадке…
Я думаю сказанного достаточно, чтобы представить моё детство».
Цзян Цин смолкла. Хранила молчание и Роксана Уитке. У неё, конечно были вопросы к рассказчице. Но её предупредили, что красная императрица не терпит, когда её прерывают дополнительными вопросами или обращаются с просьбой что-то уточнить. Американке оставалось лишь довольствоваться услышанным.
Тайну биографических секретов Цзян Цин удалось в какой-то мере приоткрыть Чжун Хуаминю и Артуру Миллеру. Им посчастливилось разыскать в Гонконге, Японии, на Тайване и даже в Америке сверстников четвёртой жены председателя Мао. Одни из них учились вместе с ней в средней школе, другие — в театральном училище, третьи довольно близко знали её по совместной работе в кино и театре, наконец, четвёртые были в курсе её жизненных передряг и любовных похождений. В результате получилась довольно полная и, судя по всему, правдивая картина.25 Но Чжун Хуаминь и Артур Миллер признают, что им, например, так и не удалось точно установить год рождения Цзян Цин. В одних случаях им «твёрдо называли
» 1914 год, в других — убеждали, что она «несомненно родилась в 1915 году
».
Так или иначе, но родилась она в уезде Чжучэн провинции Шаньдун. Её крестили в баптистском храме и нарекли Шумэн. Отец её носил фамилию Луань. Так что в самом раннем детстве она была Луань Шумэн. Кем был отец — сказать достаточно трудно. По одним сведениям, он промышлял торговлей, по другим — был крестьянином-середняком, по третьим — аж «колёсных дел мастером
»! Одни утверждают, что это была семья со средним достатком, другие — что они нищенствовали.
Отец умер, когда Шумэн была маленькой. Овдовевшая мать, здоровье которой оставляло желать лучшего, вынуждена была пойти в услужение в богатую семью, что позволяло хоть как-то сводить концы с концами.
Когда Шумэн исполнилось семь лет, они с матерью перебрались в провинциальный центр — город Цзинань и обосновались у Ли Цзумина, деда по матери, работавшего управляющим в одной из средних школ города. Благодаря своим связям в просветительских кругах он сумел устроить внучку в подготовительный класс при Провинциальной первой педагогической школе. Через шесть лет она окончила школу. О том, что произошло с ней после этого, никаких достоверных сведений нет.
По одной версии, в силу крайне стеснённых финансовых обстоятельств мать решилась на то, чтобы продать 13—14-летнюю Шумэн. Такое довольно часто практиковалось в те времена. Но Шумэн взбунтовалась, обратившись в полицию с просьбой защитить её от рабства. Случилось так, что как раз в это время, весной 1929 года, было объявлено о наборе молодёжи в только что открытое Провинциальное экспериментальное драматическое училище. И полицейские власти ничтоже сумняшеся направили Шумэн в это училище.
По другой версии, за год или два до окончания школы Шумэн лишилась матери — она умерла. Но дед, несмотря на действительно стеснённые материальные условия, всё-таки оставил внучку у себя и позаботился, чтобы она окончила школу. Более того, он дал ей свою фамилию Ли и новое имя Юньхэ, то самое, которое Цзян Цин назвала П. Владимирову и Роксане Уитке своим настоящим именем. А дальше случилось такое, что иначе, как детективной историей не назовёшь: пятнадцатилетнюю Шумэн похитили! Киднэппинг был поставлен на широкую основу. Девушек похищали и затем продавали в ночные клубы, кабинеты массажа, а то и в… театральные труппы. Для престарелого Ли Цзумина, не имевшего своей семьи, это был страшный удар. Как он любил говорить: «Юньхэ — моя семья, а я — её семья
».
Все его попытки найти внучку оканчивались неудачей. Каково же было его изумление, когда он год спустя на спектакле в цзинаньском театре увидел выступающую на сцене внучку! Он тотчас через влиятельных друзей вступил в переговоры с похитителями и, заплатив выкуп, вернул себе Юньхэ. Но перед ним была уже не прежняя девушка-подросток, напоминавшая ещё не распустившийся девственный цветок, а привлекательная, рафинированная, с прекрасными манерами и навыками общения юная леди. Она вела себя настолько самоуверенно, что уже успела получить прозвище «высокомерная мисс Ли». И ещё одну, новую черту заметил в своей внучке престарелый дед: тягу к приключениям, которые, в частности, сулила ей театральная жизнь. Она решительно отвергла его предложение продолжить учёбу в общеобразовательном институте, хотя он обещал помочь ей в этом. Но «высокомерная мисс Ли» предпочла устроиться в Шаньдунское провинциальное экспериментальное драматическое училище. Его номинальным директором считался приглашённый из США драматург Чжао Таймо. Фактически же всеми делами в училище заправляли Ван Бишэн и его супруга У Жуйянь, популярные в то время знатоки пекинской оперы и драмы на диалекте путунхуа. Что же касается Чжао Таймо, то он обосновался в красивом портовом городе Циндао, где устроился деканом местного университета.
Учёба в училище шла у Юньхэ ни шатко ни валко. Её однокашники, в частности Вэй Хулин, шанхайская звезда кино и театра 30—40-х годов, и Чжао Юньшэнь, популярнейший исполнитель пекинской оперы, не смогли припомнить, чтобы «высокомерная мисс Ли» хоть как-то проявила себя на сцене училища, на которой каждую субботу и воскресенье непременно игралась опера или ставился драматический спектакль, показала свои актёрские возможности, заявила о себе. «Мисс Ли» недолго ходила в девицах. Своего суженого-ряженого по фамилии Пэй она разыскала там же, в училище. Они быстро поженились и так же быстро расстались. Потому-то, видно, не сохранилось никаких хотя бы отрывочных сведений о первом муже Цзян Цин, даже о его имени.
В начале 1933 года Юньхэ бросает учёбу в драматическом училище и, навсегда вычеркнув из своей жизни любящего деда, а заодно и первого мужа, перебирается в Циндао, где представляется как Ли Циньюнь. Кстати, в гонконгском справочнике «Кто есть кто в Китае» за 1967 год Ли Циньюнь фигурирует как настоящее имя Цзян Цин.
В Циндао она напрашивается на приём к Чжао Таймо и Продолжает напоминать ему о себе до тех пор, пока он не устраивает её на работу в университетскую библиотеку. По единодушному мнению всех, кто так или иначе знал её, она умела играть на чьём-либо терпении до тех пор, пока не добивалась того, чего хотела.
Став сотрудницей библиотеки, Циньюнь переключается с Чжао Таймо на его супругу Юй Шань и входит к ней в доверие, причём настолько, что двери дома этого благородного семейства открываются перед «мисс Ли» в любое время дня и ночи. Главным объектом своих вожделений Циньюнь избрала Юй Цивэя, кузена мадам Юй Шань. Она заприметила красавчика в университете, где он слыл не только покорителем девичьих сердец, но и талантливым проповедником популярных тогда в студенческой среде левых идей. Он был членом компартии, в которую вступил в 1932 году. Кроме того, приходился племянником гоминьдановскому министру обороны Юй Давэю. Нетрудно догадаться, почему «мисс Ли» положила на него глаз и, долго не раздумывая, стала его любовницей. Более того, она прониклась его левыми идеями, стала активной сторонницей прокоммунистической деятельности, которой занимались в Циндао многие киноактёры.
Однако любовный роман с Юй Цивэем оказался, к великому сожалению «мисс Ли», скоротечным. Она сумела только понравиться ему, но не покорить его сердце. Он видел в ней лишь очередную девочку. В том же, 1933 году Юй Цивэй уехал в Пекин, навсегда порвав с Цзян Цин. Впоследствии он, приняв имя Хуан Цзин, дорос до министра машиностроения КНР. Умер в 1958 году.
В 1934 году Чжао Таймо и Юй Шань принимали у себя в Циндао своего старого друга Си Туншаня, директора одной из шанхайских киностудий. Цзян Цин, как говорится, оказалась в нужное время в нужном месте — в доме Юй Шань в тот самый момент, когда туда пожаловал высокий гость из Шанхая. Естественно, она была представлена ему. И, конечно же, докучала гостю до тех пор, пока он не согласился взять её с собой в Шанхай.
Шанхай начала 30-х годов считался «китайским Голливудом», фабрикой грёз. Добрый десяток киностудий, поставивших кинобизнес на поток, словно магнит притягивали к себе со всего Китая писателей, сценаристов, режиссёров и, конечно, артистов. Каждый из них надеялся поймать здесь за хвост жар-птицу, обрести известность и богатство.
Она объявилась в богемном мире Шанхая не как Ли Юньхэ или Ли Циньюнь, или, наконец, «высокомерная мисс Ли», а как честолюбивая актриса Лань Пин — «Голубая яблонька».
«…В молодости я была совсем другой,— откровенничала Цзян Цин в беседах с американкой.— Очень эмоциональной. Со мной происходила тьма романтических историй. Во мне вообще нет ни капли феодальных предрассудков, которыми обычно напичканы китаянки. Я всегда веду себя так, как мне подсказывает чувство…
Знаете, я больше всего люблю наш Шанхай,— продолжала она.— Иностранцы называют его раем для ловкачей и авантюристов. И, пожалуй, в этом есть немалая доля истины. Но мне очень нравятся, например, шанхайские уличные песенки — простые, непосредственные.
Когда я приехала в Шанхай, меня стали осаждать толпы поклонников. О, на какие только уловки они не пускались! До сих пор всех помню по именам. Потом многие из них достигли больших высот. Ну а теперь большинство уже свергнуты…»
Первым, на кого «высокомерная мисс Ли» положила глаз в Шанхае, был некто Чжан Гэн, один из руководителей местной организации КПК. Она знала что делала: многие киностудии Шанхая контролировались коммунистами. И связь с Чжан Гэном сулила прекрасные перспективы. Но вот беда! Чжан Гэн всерьёз увлёкся ею и объявил своим товарищам по партии и кинобизнесу, что Лань Пин — «его девушка», что она «принадлежит ему и только ему» и станет его женой, и строго предупредил, чтобы «никто не дотрагивался до неё».
Покорная, бессловесная, верная спутница жизни важного партийного функционера — это было не для Лань Пин. Она решительно отказала Чжан Гэну, к его немалому удивлению. Отказала и тотчас переключилась на Тан На. Вскоре без малейших возражений, а точнее — с величайшей радостью стала законной женой этого очень популярного тогда в Шанхае актёра, сценариста и кинокритика.
Тан На ввёл молодую жену в круг своих обширнейших знакомств в мире искусства. Лань Пин с её умением преподнести себя, понравиться быстро обзавелась полезными друзьями, приятелями и просто нужными связями. На первый взгляд, всё складывалось у неё как нельзя лучше. Но это только на первый взгляд…
«Актёрская труппа,— вспоминают старые знакомые Цзян Цин по миру кино в Шанхае,— это обычно единое целое. Вместе селятся. Вместе питаются. Вместе проводят досуг. Все у всех на виду. Но только не Лань Пин. Эта всегда держалась где-то в сторонке. Сама по себе. Даже питалась в одиночку, в своей комнатушке. Посочувствовать кому-то, посодействовать коллеге, поддержать его хотя бы морально — ей такое и в голову не приходило. А вот подстроить подлянку ради собственной выгоды — тут она была горазда. У неё все заботы были только о себе. Эгоистичная и честолюбивая она знала, чего хочет и как можно этого достигнуть. Хотя ей не всегда это удавалось».
Имея при себе знаменитого мужа, Лань Пин не смогла пробиться на большой экран. Её уделом были роли «заднего плана», или, как ещё их называли, «роли декоративного плана». Не только ведущих, но даже второстепенных ролей ей никто не предлагал. По оценке её бывших коллег, «она была какой-то безликой, пожалуй, одной из самых заурядных среди актрис Шанхая. Правда, изредка её фотографии мелькали на газетных полосах. Но только потому, что её мужем был Тан На
».
Нетрудно догадаться, почему между Лань Пин и Тан На стали возникать недомолвки и тихие семейные ссоры, которые неминуемо переросли в громкие, на весь богемный мир Шанхая, скандалы. Они достигли своего апогея, когда Тан На, как и положено мужу, последним узнал о том, что его избранница ещё до истечения медового месяца легла в постель с кинорежиссёром Чжан Минем в надежде заполучить таким путём ведущую роль в его фильме «Тайфун» (The big Thunder Storm). Достойно оценив её любовный пыл, её темперамент, Чжан Минь тем не менее роли ей не дал.
Кризис в своей супружеской жизни Лань Пин решила очень просто. Упаковала чемоданы и, не сказав мужу ни слова, исчезла. А через несколько дней объявилась в родной Цзинани, откуда с наслаждением следила по газетам за тем, как шанхайский мир богемы перемывает ей косточки и сочувственно обсуждает неудавшуюся попытку Тан На свести счёты с жизнью. Она искренне радовалась тому, что её имя отныне на слуху не только в Шанхае, но и во многих других городах и весях.
Летом 1937 года японские войска вторглись в Китай, 13 августа Шанхай подвергся бомбардировке. Киностудии стали спешно перебираться во внутренние районы страны, подальше от боевых действий. Одна из них, а с ней труппа актёров, среди которых оказалась Лань Пин, обосновалась сначала в городе Ухань, но вскоре война пришла и туда. И студия переехала в г. Чунцин провинции Сычуань. Там «Голубой яблоньке» улыбнулась удача. Ей предложили ведущую роль в антияпонском фильме «Китайские дети». Причём играла она в паре с самим Чжао Данем, звездой первой величины. В фильме он — молодой крестьянин. Она — его жена. Они страстно любят друг друга. Причём, как выяснилось вскоре, не только на съёмочной площадке. Вот-вот должен был разразиться скандал. Его сумел предотвратить Чжао Дань, которому небезразлична была репутация и примерного семьянина. Он порвал с «Голубой яблонькой», и ему всё сошло с рук. А та не избежала наказания — потеряла вроде бы обещанную ей роль в следующем из антияпонской серии фильме «Это бескрайнее пустое небо» (The Long Empty Sky). За первым ударом судьбы последовал второй. Несколько месяцев спустя студия и труппа перебазировались в Яньань, уже ставшую главной опорной базой КПК. Однако «Голубую яблоньку» с собой не взяли. Пришлось ей в одиночку добираться до Яньани.
Су Исинь работал в яньаньском Институте искусств имени Лу Синя в должности директора по учебной части. В круг его служебных обязанностей входил контроль за деятельностью укомлектованных из артистов пропагандистских бригад, разъезжавших по городам и весям. «Голубую яблоньку» такая работа вполне устраивала. Поэтому вскоре импозантный джентльмен с блестящим европейским образованием и великосветскими манерами, каким был Су Исинь, стал то ли любовником, то ли гражданским мужем Лань Пин. Но через некоторое время она пришла к выводу, что явно обманулась с выбором «всесильного мужа». По меткому выражению её коллег, она поняла, что «вышла замуж за рядового чиновника, полагая, что он — начальник департамента
».26
‹…›
«Цзян Цин,— отмечают Чжун Хуаминь и Артур Миллер,— оказалась верной женой, согласившись стоять в стороне до тех пор, пока сам Мао Цзэдун не вовлечёт её в борьбу за его идеи. После приблизительно тридцати лет супружества Мао смог довериться своей жене во времена, когда он, вероятно, с трудом мог верить кому-либо ещё. Об этом говорит и то обстоятельство, что Цзян Цин в период культурной революции ни разу не приклеивался ярлык „экстремистки“, хотя она безусловно заслуживала этого как в Китае, так и за его пределами. Есть доказательства того, что она в самые последние моменты подталкивала „культурную революцию“ в более радикальном направлении, чем, скажем, остальное руководство».
В 1964 году Цзян Цин впервые после долгих лет забвения заявила о себе в качестве депутата Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) от провинции Шандун. Она активно включилась в кампанию за реформирование традиционного китайского театра. Поводом для этого послужило указание Мао Цзэдуна от 27 июня 1964 года о том, что союзы работников литературы и искусства «в последние годы докатились даже до ревизионизма и, если не провести серьёзной перестройки, то они в один прекрасный день неизбежно превратятся в организации типа венгерского „Клуба Петефи“
».
Указание мужа-императора (а именно посредством «указаний» китайские императоры предпочитали управлять Поднебесной) открывало перед Цзян Цин широкие возможности для выхода на политическую арену страны, к тому же через хорошо знакомую ей сферу искусства.
Чуть позже, в конце 1966 года, она заявит:
«Несколько лет назад я начала довольно систематически изучать некоторые области литературы и искусства… Я заметила, что наши литература и искусство не соответствуют экономической основе социализма и что поэтому они неизбежно будут ей вредить».
Дальше ещё круче:
«Империализм — это одряхлевший, паразитирующий и прогнивший капитализм. Современный ревизионизм — продукт империалистической политики, вариант капитализма. Они не могут создавать хороших произведений… Капитализм просуществовал несколько столетий, но всё же располагает весьма ограниченным количеством „классиков“. Некоторые его произведения, скопированные с так называемых „классических“ творений, тусклы и безжизненны, они уже не привлекательны и, следовательно, совершенно упадочны. Есть и некоторые другие произведения, широко распространяемые среди народа, отравляющие и парализующие его. Это произведения типа твиста, джаза, стриптиза, импрессионизма, символизма, абстракционизма, живописи „диких“, модернизма и т. д. и т. п.— их перечень поистине бесконечен. Но все эти произведения можно квалифицировать как прогнившие и безнравственные, как произведения, отравлявшие жизнь народа».
Всему этому противопоставлялась быстро набиравшая силу кампания по реформе традиционного китайского театра. Кстати, в ней впервые был запущен в оборот термин «культурная революция». А началась она с реформирования классической пекинской оперы.
Как известно, традиционный китайский театр, его драма, музыка, балет, пантомима, акробатика кровно связаны с древней культурой и традициями Поднебесной. На протяжении тысячелетий красной нитью через любое действо на подмостках проходила благородная идея борьбы между добром и злом, правдой и неправдой, любовью к отчизне и предательством. На этом строился весь репертуар пекинской оперы, насчитывавший свыше тысячи трёхсот разных по жанру произведений. Отныне сам репертуар объявлялся «вредным», а включённые в него оперы и пьесы — «ядовитыми травами».
«И хотя в некоторых пьесах имеются прогрессивные мысли,— вещала Цзян Цин со страниц теоретического органа ЦК КПК журнала „Хунци“,— в целом они не отвечают требованиям воспитания трудящихся в духе социалистических идей. Поскольку плохие пьесы имеют феодальную окраску, они наносят вред и должны быть решительно отвергнуты».
Что же было предложено ею взамен? «Мисс Ли» отобрала восемь наиболее популярных опер и пьес и перекроила их на свой революционный лад. Остальные были запрещены. Перекройка же свелась к тому, что традиционная музыка и жесты, характерные для китайского классического театра, были сугубо механически «пристёгнуты» к тем или иным эпизодам периода антияпонской войны и борьбы с гоминьдановцами. Совмещалось несовместимое. Главное же «художественное» достоинство этих творений состояло в том, что их герои, все без исключения, прославляли «великого вождя — председателя Мао
».27
‹…›
Один из «пятёрки», кинорежиссёр Чжэн Цзюньли сразу же написал Цзян Цин письмо, в котором были такие строки:
«Со мной беседовали насчёт Ваших старых писем. Я не помню, чтобы у меня сохранились такие письма. Не сохранились и письма, которые Вы посылали нам, Чжао Даню и его жене. Посылаю несколько старых фотографий, снятых в З0-е годы. Можете поступать с ними по своему усмотрению».
Чжэн Цзюньли был заключён в тюрьму, где его пытали. Через два года он скончался в тюремных застенках.
Всемирно известный киноактёр Чжао Дань, тот самый, который в фильме «Китайские дети» играл молодого крестьянина, а Цзян Цин — его жену, провёл пять долгих лет в одиночной камере, после чего был сослан на каторгу, которая называлась «трудовым перевоспитанием в деревне».
«Репрессии, которым я подвергся в годы „культурной революции“,— вспоминал он впоследствии,— были гораздо более жестокими, чем моё пребывание в гоминьдановской тюрьме».
Он умер в октябре 1980 года в Пекине, когда на фестивале в лондонском «Филм-тиэтр» шесть его наиболее популярных кинолент удостоились самой высокой оценки английских критиков.
«Высокомерная мисс Ли» мстила всем, кто когда-то в прошлом пренебрёг её «актёрским талантом», не разглядел его, отказал ей в стремлении стать звездой кино и театра, кто хоть как-то, умышленно или ненароком, обидел её или, наконец, пришёлся тогда из-за зависти не по душе. Все они получили «по заслугам». Популярная певица Ван Кунь была обвинена в «тесных связях с заграницей» и понесла наказание. А писатель Лю Байзой — объявлен «гоминьдановским шпионом» и тоже репрессирован. Проректору Народного университета Сюнь Яню — навешен ярлык «агента военно-стратегического комитета гоминьдана». И он также оказался за решёткой.
Одна из популярнейших китайских актрис того времени Хун Сэньню покончила с собой в Гуаньчжоу, выбросившись с шестого этажа своего дома. Перед этим домом и на стенах здания театра, где она играла, были развешаны так называемые дацзыбао, в которых она обвинялась в «перерождении» и прочих смертных грехах. Её наголо остригли и заставили идти по улицам города с остроугольным «колпаком дурака» на голове.
В дацзыбао, расклеенных сразу же после её смерти, говорилось, что «она трусливо уклонилась от ожидавшего её уголовного наказания
».
«В феврале 1968 года меня тайно доставили в Пекин,— вспоминала Цинь Гуйчжэнь, работавшая служанкой у Цзян Цин в 30-е годы.— Дело в том, что я, конечно, многое знала об интимных сторонах её жизни в тот период. Тогда в квартире Лань Пин слонялся самый разношёрстный народ. Помнится, однажды она привела мужчину. И ночью между ними началась ссора, а затем настоящая драка. При этом оба схватились за ножи. Я вмешалась и, по-моему, спасла Лань Пин. Мужчина ведь был сильнее её. А бывало и так, что ей не на что было поесть. Тогда я покупала ей еду на свои скудные сбережения. Я думала, что теперь она захотела встретиться со мной. Но вместо этого меня на семь лет упрятали в тюрьму».
Местью за прошлое дело не ограничивалось. Ведь Цзян Цин хотелось предстать перед всем миром «незаурядной натурой», как она выразилась в беседе с Роксаной Уитке, одинаково хорошо разбирающейся не только в проблемах искусства, но и в политике, хозяйственных вопросах, дипломатии и даже в стратегии военного искусства.
«…Сегодня я хочу ознакомить вас с Сибэйским сражением. Уверена, вас заинтересует эта любопытная история,— заявила американке Цзян Цин во время одной из их бесед.— Дело было так: многотысячная гоминдановская армия под командованием любимчика Чан Кайши генерала Ху Цзуньнаня попалась в нашу западню. Мы начали их окружать… Толпы распропагандированных нами солдат перешли на нашу сторону. Они остались в гоминьдановской форме, но получили фуражки с красной звездой… Бывало, мы пробирались горными тропами, а внизу, прямо под нами шли по дороге гоминьдановцы, до нас доносилась, их речь. Мы крались тихо и бесшумно, словно тени… Когда председатель Мао руководил Сибэйским восстанием, я всё время была подле него. С нами была группа верных товарищей… Подобные случаи из военной жизни тоже часть моей биографии. Ведь Сибэйским боем я руководила вместе с председателем Мао. Это сражение было ужасно кровопролитным. Мне пришлось нелегко. Когда мы отходили из Яньани, все женщины ушли, переправившись через Хуанхэ, но я осталась рядом с председателем. Я была на поле боя до тех пор, пока мы не разгромили армию Ху Цзуньнаня».
Разумеется, это был не единственный случай, когда Цзян Цин выдавала желаемое за действительное только для того чтобы показать себя необычайно одарённой личностью. И горе было тому, кто пытался усомниться в этом.
Известный в Китае военачальник Ян Чэньу рискнул однажды по-солдатски откровенно предостеречь Цзян Цин от некомпетентного вмешательства в военные дела: «Когда старая курица начинает кукарекать при восходе солнца — это значит, что процветающая фирма в опасности
». Реплика стоила ему поста начальника Генштаба НОАК.
Министр угольной промышленности Китая Чжан Линьчжи также имел неосторожность нелестно отозваться о талантах «красной императрицы». Возмездие не заставило себя ждать. 14 декабря 1966 года Цзян Цин публично объявила его «твердолобым приспешником врагов председателя Мао
» и спровоцировала хунвэйбинов на организацию беспорядков в министерстве угольной промышленности. Ещё через неделю Чжан Линьчжи скончался под пытками в своём служебном кабинете.
У Дэн Сяопина были все основания заявить:
«Председатель Мао позволил ей взять власть в свои руки, сформировать свою фракцию, использовать невежественных молодых людей для того, чтобы создать себе политическую базу, воспользоваться именем Мао Цзэдуна как своим личным флагом ради своих личных интересов… Председатель Мао никогда не вмешивался, чтобы остановить её или хотя бы помешать ей использовать его имя».
Несколько штрихов к портрету «красной императрицы» могут добавить зарисовки Крума Босева. Во время «культурной революции» он был в Пекине в качестве временного поверенного в делах Народной Республики Болгарии.
«Первый раз я увидел Цзян Цин на официальной трибуне Тяньаньмынь. Моложавая, небольшого роста, в чёрных очках и солдатской фуражке, она скорее походила на тех хунвэйбинов, которые вышагивали перед трибунами в рядах „кричащих батальонов“. И так же, как они, она высоко подняла над головой „красную книжку“ — цитатник Мао Цзэдуна».
Это было в декабре 1967 года.
«…Большой банкетный зал Всекитайского собрания народных представителей переполнен. Чжоу Эньлай устроил большой приём в честь принца Сианука. Преобладает зелёный цвет одежды военных. Военный оркестр играет почти беспрерывно.
Резкие, отрывистые звуки так хорошо известной нам музыки, которую мы вынуждены слушать постоянно на таких мероприятиях, часто переходят в какие-то неизвестные лирические мелодии. Кто-то говорит, что это сочинения Сианука. Принц сидит напротив Чжоу, напротив него сидит и жена Линь Бяо — Е Цюнь. Она в военной форме и фуражке. В такой же форме мы привыкли видеть и Цзян Цин. Но в этот вечер она надела гражданское платье. На ней элегантный серый костюм. Было жарко, и Цзян Цин сняла пиджак, оставшись в чёрной атласной блузе поверх широких брюк. Чжоу разговаривает с женой Сианука, гремит оркестр, оживлённо беседуют за столами дипломаты. Но Цзян Цин ни с кем не разговаривает. Она то присядет на миг на отведённое ей место за официальным столом рядом с Яо Вэньюанем, то встанет и идёт через весь зал, исчезая в соседних помещениях, затем вновь возвращается. Вот она остановилась у одного из столов в глубине зала. Кто-то за соседним столом произносит по-английски: „Это артисты из труппы Пекинской оперы“. Но Цзян Цин недолго задерживается и возле них. Она быстро пересекает зал, чувствуя устремлённые на неё взгляды».
Эта запись в дневнике К. Босева датирована 5 июля 1970 года.
А вот какой увидела Цзян Цин американка Роксана Уитке:
«По китайским меркам, высокая — 5 футов 5 инчей28 — Цзян Цин выглядела стройной, изящной и даже хрупкой. При разговоре она любила жестикулировать. При этом движения её тонких, красивых рук были плавными, непринуждёнными. Так же непринуждённо она изредка поправляла бело-зелёный пластиковый гребень в коротко подстриженных тёмных волосах.
При ней всегда были помощники, телохранители, личные врачи и прочая свита, молчаливая и бдительная, готовая по первому сигналу повелительницы выполнить любое поручение. Каждое её слово моментально записывалось. Причём до тех пор, пока она не окончит свой, казалось бы, бесконечный монолог, никто не смел даже рта раскрыть. Всё это, вместе взятое, создавало впечатление о Цзян Цин как о „пролетарской императорской особе“.
Как личность Цзян Цин достаточно сложна и противоречива. Вне всякого сомнения, она интеллигентна, не лишена обаяния, способна очаровать собеседника. В то же время из неё выпирает высокомерие, надменность, заносчивость. Она непредсказуема и эгоцентрична. Кроме того, ей присущи какая-то нервная непоседливость и неутомимость. Она легко возбудима.
Во время одной из бесед она почувствовала себя настолько переутомлённой, что решилась принять снотворные пилюли. Однако не рассчитала дозу и, не дойдя до дивана, на котором хотела отдохнуть, рухнула на пол как подкошенная. В другой раз она неожиданно прервала беседу и стала играть на бильярде со своими помощниками. Причём буквально визжала от восторга каждый раз, когда ей удавалось послать шар в лузу. Потом она объяснила, что к такому „упражнению“ она прибегает всякий раз, когда возникает необходимость размять затёкшие ноги.
В своих бесконечных монологах она неизменно выставляет себя верной сподвижницей Мао Цзэдуна. И почти не скрывая преподносит себя императрицей.
Китайцы же в основной своей массе не воспринимают её как самостоятельную личность. Для них она всего лишь обычная жена императора, которая пытается незаконным путём присвоить себе право на верховную власть в стране. А ветераны как партии, так и армии просто ненавидят её. В общении со мной Цзян Цин не делала секрета из того, что ей „больше всего нравится буржуазная драма“. Неоднократно приходилось слышать: „Я просто преклоняюсь перед игрой Греты Гарбо“. А однажды она заявила: „Вы, американцы, проявили несправедливость в отношении Греты Гарбо, не удостоив её «премии Академии» (Academy Award). Я считаю, что это — грубая ошибка, но не американского народа, а тех, кто правит Соединёнными Штатами“. И продолжила после паузы: „В мою бытность в Яньани я встречалась с американским корреспондентом Бруксом Аткинсоном (Brooks Atkinson). Мы говорили и о Грете Гарбо. Если увидите его, то скажите ему, что я не забыла наши беседы. А если доведётся встретиться с Гретой Гарбо, передайте ей мои наилучшие пожелания. Скажите, что для меня она — «Великая Гарбо»“.
Высоких похвал удостоился и Чарли Чаплин, картины которого также регулярно просматриваются Цзян Цин. В этой связи я осмелилась спросить её, почему она считает позволительным для себя наслаждаться игрой таких буржуазных звёзд, как Грета Гарбо, а рядовым китайцам это запрещено?
Цзян Цин без обиняков ответила: „Эти буржуазные демократические фильмы предназначены для приватного просмотра. Если их показать народным массам, то они подвергнутся жёсткой, беспощадной критике по политическим мотивам. Взрыв народного негодования в значительной мере коснётся и Греты Гарбо, поскольку она — не китаянка. То же самое случится и с фильмами Чарли Чаплина. Так что абсолютно правильно просматривать эти фильмы в «кругу своих», тех, кто сможет разглядеть как сильные, так и слабые их стороны. Но эти приватные просмотры не могут быть гласными“».
Четвёртая жена Мао Цзэдуна явно рассчитывала после смерти супруга стать его преемницей — председателем КПК или, по-другому, «красной императрицей». За образец для подражания она избрала императрицу танской династии У Цзэтянь. Правда, полного и открытого отождествления с ней Цзян Цин опасалась. Слишком уж жестока и кровожадна была У Цзэтянь. По тем же соображениям она не желала, чтобы её сравнивали с императрицей ханьской династии Люй-хоу или с Цы Си, вдовствующей императрицей последней цинской династии. Если имена этой троицы постоянно упоминались в прессе, то всего лишь для того, чтобы показать выдающуюся роль женщин в управлении Срединным государством. Однако для «исторического обоснования» претензий Цзян Цин на высшую власть нужна была другая, ничем не скомпрометированная личность. И её по приказу «красной императрицы» искали. Причём к этому были подключены даже археологи: авось найдут могилу какой-нибудь дотоле неизвестной могущественной женщины, вершившей судьбами народа Поднебесной!
Историкам идеальной личностью показалась Дай-цзи, жена последнего правителя иньского периода Чжоу-синя. В прессе незамедлительно появились «исторические исследования», в которых доказывалось, что Чжоу-синь, образно выражаясь, и шагу не мог сделать без своей Дай-цзи, что при принятии важнейших политических и прочих решений он внимал её советам. Вывод напрашивался сам собой: Дай-цзи играла первую скрипку в управлении государством.
Стараниями всё тех же историков сместились акценты в уже вроде бы устоявшихся оценках деятельности самого Чжоу-синя. Его обвиняли, в частности, в том, что он нарушил заветы предков: удалил от себя даже самых близких родичей и отказался от жертвоприношений своим предкам. Более того, он стал «почитать и возвышать преступников и беглецов из всех частей государства
». Теперь его прегрешения стали интерпретироваться как прогрессивные меры, направленные на то, чтобы в борьбе против родовой рабовладельческой аристократии опираться на выходцев из низов. Казалось, что все складывается наилучшим образом, но… археологи никак не могли обнаружить могилу Дай-цзи. А историки вскоре дали этому достаточно убедительное объяснение: войска чжоуского правителя У-вана взяли штурмом столицу иньского государства и пленили Дай-цзи вместе с её мужем. Пленников обезглавили и отрубленные головы прикрепили к белому знамени У-вана. Так что Дай-цзи, как и её муж, вряд ли удостоилась какого-либо, а не то чтоб богатого погребения. Поиски археологов были прекращены, поскольку Цзян Цин в связи с вновь вскрывшимися обстоятельствами потеряла всякий интерес к личности Дай-цзи. В течение 1972—1974 годов археологи открыли и исследовали несколько женских погребений, среди которых они выделили курган в местечке Мавандуй, близ города Чанша, провинция Хунань. В нём был обнаружен набальзамированный труп примерно 50-летней женщины, сплошь укрытый в футляр-одежду из пластинок белого нефрита, скреплённых золотыми проволочками. Для археологов это была сенсационная находка. Для Цзян Цин — очередная неудача. Выяснилось, что умершая была женой сказочного богача, который, однако, ничем не увековечил своё имя в истории Поднебесной. Да и сама умершая кроме посмертной нетленности отличалась при жизни разве что букетом всяческих хворей: желчекаменной болезнью, атеросклерозом, не говоря уже о женских болезнях. В мае-июне 1975 года в окрестностях деревни Байфу уезда Чанпин под Пекином были вскрыты три захоронения раннезападночжоуского периода. В одной из могил обнаружили труп женщины средних лет. Впечатляющее количество бронзового инвентаря, в том числе лошадиной сбруи и всевозможного оружия свидетельствовало о том, что умершая была погребена с высокими воинскими почестями. Это более чем устраивало Цзян Цин. Но, к её глубочайшему огорчению, воительница оказалась некитайских кровей.
Удача улыбнулась через год. В мае 1976 года в окрестностях деревни Сяотунь близ города Аньяна, провинция Хэнань, было обнаружено богатейшее захоронение иньского периода.
Правда, гроб с телом усопшей не сохранился — он находился ниже уровня грунтовых вод. Но надписи на бронзовых сосудах и прочем инвентаре позволили установить имя умершей — Фухао. В исторических летописях и трактатах оно, по данным историков, ни разу не упоминалось. Однако более 170 раз встречалось на гадательных костях. В конечном итоге было установлено, что Фухао — жена знаменитого иньского правителя У-дина, что она принимала активное участие в крупных политических событиях, командовала походами против соседних с иньцами племён, руководила церемониями жертвоприношений, набирала воинов для своей армии, управляла окраинными районами государства. Она умерла при жизни У-дина, который почитал её и как жену, и как верную соратницу.
Фухао стала истинной находкой для Цзян Цин, блистательным информационным поводом для развёртывания кампании её собственного возвеличивания как достойнейшей преемницы председателя Мао, как верного продолжателя его революционного дела. Началом такой кампании должен был послужить срочно подготовленный симпозиум по проблемам, связанным с обнаружением могилы Фухао. Но и здесь судьба сыграла с Цзян Цин злую шутку. Симпозиум состоялся в июне 1977 года. Он прошёл, как и замышлялось, под знаком возвеличивания достойного преемника и продолжателя дела председателя Мао. Но в роли преемника выступал Хуа Гофэн. А Цзян Цин пребывала в тюрьме.
В одном из последних писем «великого кормчего», адресованных Цзян Цин, содержались поистине пророческие слова:
«Я уже стар и скоро умру. Пусть каждый из нас сохранит душевный покой. Эти несколько слов могут быть моим последним обращением к вам. Жизнь человеческая ограничена, но революция не знает границ. В последнее десятилетие я пытался достигнуть вершины революции, но потерпел неудачу. Вы ещё можете достигнуть этой вершины, но знайте, что если вам это не удастся, то вы рухнете в бездну и разобьётесь так, что и косточек не соберут».
Мао Цзэдун, как известно, скончался 9 сентября 1976 года. А недели через две его благоверная обманным путём проникла в святая святых — в канцелярию ЦК КПК и выкрала из личной папки покойного несколько документов. Тотчас поднялся шум. От вдовы потребовали незамедлительно вернуть на место изъятые ею бумаги. Она же, в свою очередь, настаивала на срочном созыве совещания высших руководителей партии и государства, на котором она намерена предъявить эти документы как неопровержимое доказательство того, что она является единственно законной наследницей Мао Цзэдуна на посту Председателя КПК. Какие же документы могли подтвердить это?!
…Летом 1976 года в пекинской прессе и других средствах информации появились сообщения о том, что в качестве своего преемника на посту Председателя КПК «великий кормчий» назвал премьера Хуа Гофэна, что якобы на одной из встреч с ним Мао изрёк: «Раз дело в твоих руках, я спокоен
». Тотчас были растиражированы фотографии этой «исторической встречи», а затем и картины на стенах государственных и правительственных учреждений и даже вокзалов. Однако 5 ноября 1976 года гонконгская газета «Наньхуа ваньбао» разразилась сенсацией: приведённые выше слова Мао Цзэдун, оказывается, адресовал не Хуа Гофэну, а Цзян Цин в ответ на её назойливые требования «гарантированно обеспечить её будущее». Запись этой беседы, хранившейся в личной папке председателя, Цзян Цин как раз и намеревалась предъявить участникам совещания в качестве неопровержимого доказательства того, что она является единственной законной наследницей «великого кормчего» на посту председателя партии.
Совещание состоялось 30 сентября 1976 года. О том, как оно проходило, одной из первых в деталях и красках поведала миру всё та же «Наньха ваньбао»:
«…Маршал Е Цзяньин, заместитель Мао по партии и министр обороны КНР, попросил Цзян Цин передать ему запись её беседы с Мао Цзэдуном и, поднеся документ поближе к старческим глазам, стал внимательно просматривать его. Затем улыбнулся и почти по-отечески пожурил Цзян Цин за легкомысленное обращение с важными государственными документами. „Здесь нет ни единого иероглифа, указывающего на то, что именно вас имел в виду председатель Мао в качестве своего наследника на посту руководителя партии“,— упрекнул он вдову и неожиданно передал бумаги премьеру Хуа Гофэну со словами: „Я уверен, что именно вас видел председатель Мао своим преемником“.
Словно ужаленная Цзян Цин вскочила со стула, намереваясь выхватить документы из рук растерявшегося на миг Хуа Гофэна. Ей попытался помочь в этом бывший хунвэйбин Ван Хунвэнь, которого на Ⅹ съезде КПК Мао Цзэдун лично продвинул на пост одного из своих заместителей. Однако и к Хуа Гофэну подоспела подмога в лице вице-премьера Ли Сяньняня и командующего Пекинским военным округом генерала Чэнь Силяня. Началась настоящая потасовка. Но силы были явно неравны. И, видимо, поняв это, Цзян Цин истерично прокричала в лицо Хуа Гофэну: „Ещё не успело остыть тело председателя Мао, а вы уже хотите вышвырнуть меня?! Это так-то вы благодарите председателя Мао за то, что он продвигал вас и в конце концов сделал премьером?!“. Успевший прийти в себя Хуа Гофэн парировал: „Я хочу, чтобы каждый из нас выполнял волю председателя Мао. У меня нет намерений, как вы выражаетесь, вышвыривать вас. Живите мирно у себя дома. Вас никто не вышвырнет оттуда“».
Этот прозрачный намёк означал, что вдове предлагается сделка: ей гарантируется безбедная старость и должное уважение как жены «великого кормчего», если она будет сидеть дома и не вмешиваться в дела партии и государства.
Видимо, не сознавая, что участь её уже предрешена, Цзян Цин с гневом отвергла предложенную сделку. А через неделю, 7 октября 1976 года, она и три её ближайших сподвижника были арестованы во время заседания Политбюро ЦК КПК, на котором обсуждался вопрос о состоянии и перспективах китайско-советских отношений.
Через четыре года, в сентябре 1980 года, «банда четырёх», как окрестили Цзян Цин и её сообщников, предстала перед судом. Двое членов «банды» — заместитель Председателя КПК Ван Хунвэнь и член Политбюро ЦК КПК Яо Вэньюань — с первого же дня ареста согласились, как выражаются юристы, сотрудничать с органами правопорядка, умоляя проявить к ним снисходительность и милосердие. Третий из «банды» — член Политбюро ЦК КПК и заместитель премьера КНР Чжан Чуньцяо — избрал другую линию поведения: Ни на допросах, ни в зале суда не проронил ни единого слова. Молча и смиренно слушал и наблюдал за тем, что происходит с ним и его соратниками. И только «высокомерная мисс Ли» держалась дерзко и непреклонно. Она яростно защищала себя и обвиняла власть предержащих.
«Арестовать и судить меня — значит чернить имя председателя Мао. Я проводила в жизнь пролетарскую революционную жизнь председателя Мао. …Всё, что я делала, делала в соответствии с решениями ЦК КПК во главе с председателем Мао, в соответствии с указаниями председателя Мао и премьера Чжоу Эньлая».
Как писала в те дни западногерманская газета «Рейнише пост», «вдове „великого кормчего“, весьма уверенно выступающей перед судом, удалось привлечь на скамью подсудимых Мао Цзэдуна после его смерти. Основной смысл её речи в свою защиту сводился к тому, что Мао в конечном счёте был виноват во всем. Реакция прокурора была примечательной. Он признал долю ответственности Мао за хаос во время „культурной революции“. Прокурор действовал, таким образом, в соответствии с преобладающим сейчас в Китае общественным мнением. Но он умно дифференцировал, явно с подсказки нового китайского руководства: ошибки Мао — дело второстепенное по сравнению с его заслугами, которые ему принадлежат, в борьбе против японцев и гоминьдановцев, в победе и провозглашении КНР. Поэтому все ссылки Цзян Цин на „великого кормчего“ прокурор объявил „отъявленной клеветой“, а её деяния во время „культурной революции“ — „в высшей степени серьёзными преступлениями“
».
Но Цзян Цин стояла на своём, продолжая придерживаться наступательной линии.
«Да, я хотела стать первой императрицей социалистического Китая и предлагала Дэн Сяопину: если он настоящий мужчина, вступить в честное противоборство. Я откровенно говорила и говорю, что я дурного мнения о Дэн Сяопине, человеке, который сейчас стал „сильной личностью“ Китая. Я первая объявила ему войну».
«…Вы предали идеи Мао Цзэдуна. Если вы не побоитесь отпустить меня на свободу, то дайте мне северо-восток, Шаньдун или Гуандун, чтобы я смогла осуществить там „четыре модернизации“ или собрать войска и начать войну. И если вы, имея в своём распоряжении всю остальную, опийную территорию нашей страны, сможете через пять лет одержать надо мной победу, тогда я признаю правоту Дэн Сяопина».
На одном из заседаний суда Цзян Цин даже продекламировала написанное ею в тюремной камере стихотворение. «Это мой ответ на все ваши обвинения
»,— заявила она суду. Стихотворение было выдержано в традиционном китайском стиле и основано на реальном историческом эпизоде Ⅱ века до н. э. Смысл стихотворения сводился к тому, что, мол, пришедшие к власти после смерти председателя Мао люди «ликвидировали всех свидетелей, которые могли бы дать показания
». Разумеется, показания в оправдание и защиту Цзян Цин.
На другом заседании был предъявлен длинный список деятелей культуры, незаконно репрессированных по личным приказам Цзян Цин. Когда среди прочих она услышала имя Чжэн Цзюньли, то изменилась в лице. Самообладание покинуло её и она прокричала: «Я не знакома с Цзюньли. И не считаю себя виновной в его смерти
». К ней подвели седую сгорбленную старуху, едва передвигавшую ноги. «Взгляни на меня, Цзян Цин
»,— почти шёпотом произнесла она. Это была А Чэнь, супруга Чжэн Цзюньли. За каких-то два-три года молодая цветущая женщина превратилась в развалину. Впервые за всё время суда вдова Мао растерялась. Она не сразу, но всё же узнала А Чэнь. Раздался истеричный крик: «А Чэнь, я не имею отношения к делу Цзюньли, я ничего не знала…
».
Через минуту-другую «высокомерная мисс Ли» взяла себя в руки. И в адрес прокурора и судей возобновился поток угроз и ругательств. «Это гоминьдановское, фашистское судилище, а прокурор — глупый крючкотвор
». Судья предупредил её: «Не устраивайте скандал на суде. Вы тем самым нарушаете судебный порядок и навлекаете на себя дополнительное наказание
». Но она не унималась. Тогда последовал приказ конвоирам: «Уведите подсудимую!
». Вдова Мао Цзэдуна, продолжая выкрикивать что-то бессвязное, судорожно вцепилась в перила. Её оторвали и повели. Она отбивалась, кричала, а возле дверей опустилась на пол, и конвоиры потащили её волоком из зала.
В январе 1981 года Цзян Цин была приговорена к смертной казни. Но в 1983 году смертную казнь заменили пожизненным заключением. 14 марта 1991 года вдова Мао Цзэдуна повесилась в своей одиночной камере.29
‹…›
Загадка «Лесного барса»
‹…›
Как бы то ни было, но вскоре были заменены пятеро из тринадцати командующих так называемыми «большими военными округами» (в каждый из них входит несколько провинций), причём вместе со своими заместителями. В семи «больших военных округах» сменили политкомиссаров. Аналогичная участь постигла пятнадцать командующих и двадцать политкомиссаров провинциальных военных округов.
«Чистка» сопровождалась мощной идеологической атакой на врагов председателя Мао. В теоретическом органе ЦК КПК журнале «Хунци» была опубликована статья Линь Бяо «Высоко поднимем красное знамя генеральной линии партии и военных идей Мао Цзэдуна». За ней последовал новый «директивный» опус по случаю выхода в свет 4-го тома Избранных произведений Мао Цзэдуна, которого «Лесной барс» превозносит за «творческое применение и развитие марксизма-ленинизма
», а вошедшие в 4-й том труды называет «мощным оружием в борьбе против ревизионизма и догматизма
».
Новый импульс идеологическому наступлению на вероотступников дало проведённое в конце 1960 года под руководством Линь Бяо расширенное заседание Военного комитета ЦК КПК. На нём Линь выдвинул лозунг «Четыре сначала!»:
- сначала человек, потом оружие,
- сначала политическая работа, потом вся остальная работа,
- сначала идеологические задачи, потом повседневные задачи,
- сначала живые идеи, потом идеи из книг.
«Четыре сначала!» стали, как отмечалось в прессе, «примером творческого применения учения председателя Мао в деле строительства армии
». Не менее высокую оценку получило и само заседание Военного комитета. В частности, армейская газета «Цзефанцзюнь бао» писала о нём:
«Это заседание ещё радикальнее покончило с влиянием буржуазной военной линии. Разоблачённые в этой борьбе представители буржуазии, пробравшиеся на важные посты в армии, являются важными участниками антипартийной, антисоциалистической, контрреволюционной группировки, раскрытой нашей партией в последнее время. Они выступали против Центрального Комитета партии, против идей Мао Цзэдуна, двурушнически отнеслись к указанию товарища Линь Бяо о необходимости выдвижения политики на первое место. На словах они кричали, что политика — командная сила, а на деле ставили на первое место военное дело, технику и профессионализм».
Через год Линь Бяо ввёл в действие «Инструкцию по проведению политической работы в ротах Народно-освободительной армии». Суть инструкции была всё та же: «Во всём руководствоваться идеями Мао Цзэдуна
». Армейская «Цзефанцзюнь бао» так и написала: «В инструкции воплотились идеи Мао Цзэдуна
», «от начала и до конца инструкция пропитана идеями Мао
».
С этой инструкцией Линь Бяо связывал надежду на то, чтобы окончательно покончить с «вредными элементами» в армии.
«Судя по докладу главнокомандующего Линь Бяо,— заявил Мао Цзэдун 18 января 1961 года на 9-м пленуме ЦК КПК,— в армии из десяти тысяч воинских подразделений почти четыреста, то есть четыре процента, охвачены нездоровыми настроениями. Это вам не вопрос о снабжении продовольствием. Это связано с тем, что враги захватили в свои руки командование этими подразделениями».
В конце 1963 — начале 1964 года неутомимый «Лесной барс» провёл совещание политработников НОАК, на котором было принято очередное решение о проведении идейно-политической работы в армии на основе идей председателя Мао. А в конце 1965 года он подводит итоги кампании по маоизации НОАК на Всекитайской конференции по вопросам политической и идеологической работы в НОАК. К этому моменту он — не просто министр обороны, но ещё и первый заместитель премьера Госсовета КНР. В пекинской иерархии он передвинулся на четвёртое место после Мао Цзэдуна, Лю Шаоци и Чжоу Эньлая. До вершины осталось совсем ничего.
В 1965 году были отменены воинские звания и знаки отличия. И сделано это было под предлогом «дальнейшего укрепления связей командиров с массами
». По внешнему виду генерал и солдат стали как «два сапога — пара».30
‹…›
«…И если [Ⅸ съезд] длился долгое время, с 1 по 24 апреля, и только 28 мая, через месяц с лишним, стали известны имена избранных на нем руководителей КПК, то это, конечно, потому, что за кулисами никак не могли достигнуть компромисса в условиях засилья военных.
Наконец, новая иерархия помогла понять истинную обстановку, сложившуюся после съезда: во-первых, „обожествление“ Мао Цзэдуна как единственного и верного толкователя „марксистского учения“ и, во-вторых, переход реальной власти в руки Линь Бяо, ставшего после этого чем-то большим, нежели дельфином Мао, как его называли, а именно — знаменателем».
В «Итальянской документации» отмечается, что со стороны Мао на съезде предпринимались попытки спасти положение, в частности при избрании членов Постоянного комитета Политбюро.
«В него вошли сам Мао, Линь Бяо, Чжоу Эньлай, Кан Шэн, куратор секретных служб, и Чэнь Бода, председатель группы по делам „культурной революции“ при ЦК КПК. Но какова ни была бы игра Чжоу Эньлая и Чэнь Боды, с Мао или против него, Постоянный комитет — всего лишь зеркало, отражающее общую расстановку политических сил: партии, армии, правительства, органов правопорядка, сторонников культурной революции — не в состоянии принимать самостоятельные решения, не учитывающие эту расстановку, например, тот факт, что из 21 члена Политбюро 10 являются военными, а ряд других стоят близко к ним в то время как Мао может рассчитывать лишь на свою жену и своего давнего политического секретаря Чэнь Боду».
«Мао,— отмечается итальянцами,— попытался заделать брешь в создавшейся обстановке, увеличив на 60 процентов численный состав Центрального Комитета — до 170 членов и 109 кандидатов в члены. Получилось, что доля военных не превысила 40 процентов общей численности, то есть военные оказались в ЦК в меньшинстве. Но к неудовольствию Мао, среди руководителей провинциальных ревкомов оказалось слишком много таких, которые, по существу, были назначены военными. Представителей же хунвэйбинов и „местных революционных кадров“ почти не нашлось. Их выбросили из ревкомов без какой-либо жалости».
Главный же итог Ⅸ съезда КПК в «Итальянской документации» сформулирован так:
«Деталь, которая показывает, в чьих руках находится ныне власть в Китае и хотя бы поэтому достойна упоминания,— это различие в позициях, занимаемых Е Цюнь, супругой Линь Бяо, и госпожой Цзян Цин, супругой Мао Цзэдуна. Колосс „культурной революции“ остался на 6-й ступеньке иерархической лестницы, а Е Цюнь с 14-й ступеньки поднялась на 3-ю, рядом с мужем, как это подобает истинной первой леди государства. Этот более существенный скачок по сравнению с тем, что удалось сделать в своё время супруге Мао, также является частью той цены, которую заплатил Мао за то, чтобы разделаться со своим врагом Лю Шаоци и подготовить алтарь, на котором, кажется, вскоре он будет забальзамирован под шелест красной книжицы с его избранными изречениями».
Политический пейзаж после Ⅸ съезда выглядел следующим образом.
К лету 1970 года армия ещё более укрепила свою политическую власть в стране. Об этом можно судить по тому, как пышно в провинциях и частях НОАК праздновали юбилей «двух исторических решений», судьбоносных для армии. Одно из них было принято в 1929 году под руководством Мао, а другое, его отмечали с особым рвением,— в 1960 году было принято лично Линь Бяо.
В августе-сентябре 1970 года прошёл 2-й пленум ЦК. На нём было объявлено о предстоящей сессии Всекитайского собрания народных представителей, ВСНП, которая должна была восстановить разрушенный в годы «культурной революции» государственный аппарат и, как предполагалось, принять новую конституцию. Проект конституции предусматривал пожизненное избрание Мао Цзэдуна Председателем КНР, а Линь Бяо — его заместителем, тоже пожизненно. Планировалась публикация проекта в «Жэньминь жибао» для всенародного обсуждения. Однако Мао воспротивился этому.
В ноябре 1970 года, спустя два месяца после 2-го пленума, началось создание провинциальных партийных комитетов. Последний провинциальный партком был создан в августе 1971 года. Большинство новых парткомов контролировалось военными. Лишь в отдельных случаях их возглавляли гражданские лица. Радикалы же, как стали называть выдвиженцев «культурной революции», довольствовались тем, что Чжан Чуньцяо и Яо Вэньюань, близко стоявшие к Мао Цзэдуну и Цзян Цин, возглавили партком в Шанхае.
В центральных и местных средствах массовой информации не стихала кампания прославления Линь Бяо. Хвалебные слова в его адрес, прозвучавшие 12 сентября 1971 года, оказались последними. Уже на следующий день какие бы то ни было упоминания о «самом верном боевом соратнике» и наследнике председателя Мао напрочь исчезли, как и он сам, со страниц прессы и из передач радио и телевидения. Как писал тогда еженедельник «Чайна ньюс аналисис», «последовавшая затем резкая критика неназванных новых врагов ошеломила кадровых работников, которые, по сообщениям, заявляют, что не понимают, что же произошло. Им же говорят, чтобы они лучше учили марксизм
».
…Катастрофа с «Трайдентом» внесла серьёзные коррективы во внутреннюю жизнь страны. В частности, в тот же день были категорически запрещены полёты самолётов НОАК и до особого распоряжения приостановлены рейсовые полёты. На следующий день была прекращена подготовка к традиционному параду, приуроченному к 1 октября — дню провозглашения Китайской Народной Республики, а ещё через неделю официально отменили парад и праздничный фейерверк. Вот что писала тогда французская «Нувель обсерватер»:
«В подготовке празднества участвовали тысячи людей, которые работали на площади Тяньаньмэнь днём и ночью. На улицах и стадионах подразделения Народно-освободительной армии и полиции, школьники и хунвэйбины уже проводили репетиции перед парадом. Во время парада руководители партии и государства, по традиции, находятся вместе с председателем Мао на трибуне. Скрыть отсутствие Линь Бяо невозможно. И вот 21 сентября неожиданное сообщение: 1 октября парад не состоится. Проживавшие в Пекине иностранцы, интересовавшиеся тем, каким образом они могли бы получить приглашение на официальную трибуну, слышат в ответ: „Весьма сожалеем, парада не будет“».
И это ещё не все. В эту годовщину провозглашения КНР на первых полосах партийной «Жэньминь жибао» и армейской «Цзефанцзюнь бао» не было традиционной совместной праздничной передовой директивного характера, позволявшей наблюдателям хотя бы в общих чертах определить расстановку сил в стране и основные параметры её внутреннего и международного положения. Не было на страницах газет и журналов обычных в этот день фотографий Мао с его «самым лучшим боевым соратником» Линь Бяо. Наблюдатели терялись в догадках. Одна версия сменялась другой. …Лишь летом 1972 года китайские официальные сотрудники, конечно же, не без санкции своего руководства, поведали двум западногерманским корреспондентам, сопровождавшим Герхарда Шрёдера, тогда политического деятеля ФРГ, в поездке по Китаю, об обстоятельствах таинственного исчезновения наследника Мао Цзэдуна. Они упомянули, в частности, об «окончательно утверждённых
» 20 июля 1972 года директивах по делу Линь Бяо, которого «уже нет в живых
». Рассказали и о том, что «в Китае уже все знают о причинах провала и смерти Линь Бяо
». Согласно изложенной ими версии Линь Бяо организовал заговор с целью убийства Мао Цзэдуна, имея при этом в виду занять его руководящий пост в партии и государстве. Однако заговор был раскрыт, после чего Линь Бяо решил бежать. Но самолёт, на котором он летел, разбился в Монголии. Помимо него на борту самолёта находились его жена Е Цюнь и сын Линь Лито. Сообщили они и о том, что Е Цюнь была избрана на Ⅸ съезде КПК членом Политбюро ЦК, а Линь Лито занимал должность заместителя начальника отдела тыла в Главном штабе ВВС. Такое вот невразумительное, лишённое внутренней логики объяснение услышали западногерманские корреспонденты.
Официальное же заявление по делу Линь Бяо, тоже малопонятное и далеко не исчерпывающее, впервые было сделано премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлаем осенью 1972 года на встрече с 22 американскими редакторами ведущих газет. Не мудрствуя лукаво премьер сказал, что Линь Бяо готовил заговор с целью убийства Мао Цзэдуна, так как мог и не стать преемником. Убийство же гарантировало ему право занять этот пост. С помощью сына он тайно подготовил для себя самолёт. Мао Цзэдун издал приказ, запрещавший в тот момент подниматься в воздух. Но Линь Бяо в сопровождении жены, сына и нескольких доверенных лиц, нарушив приказ, поднялся на самолёте в воздух. Ну, а дальше произошло то, что произошло.
Наконец, вопрос о Линь Бяо был затронут на Ⅹ съезде КПК, состоявшемся в Пекине 24—28 августа 1973 года. В политическом докладе, с которым выступил Чжоу Эньлай, бывший заместитель Мао был пригвождён к позорному столбу как «антипартийный двурушник, буржуазный карьерист, заговорщик, фашист, предатель, контрреволюционер
». И ничего по существу. А из этого длинного перечня ярлыков, один другого хлеще, невозможно было представить, за какие такие прегрешения учитель погубил своего верного ученика, а Председатель КПК — официального, им же самим облюбованного наследника? Какая чёрная кошка между ними пробежала?
…В июне 1969 года в Пекине был издан сборник документов о «культурной революции». Один из документов озаглавлен «Выдержки из речи товарища Линь Бяо на расширенном заседании Политбюро 18 мая 1966 года». До этого ни речь Линь Бяо, ни другие материалы заседания не публиковались, хотя май 1966 года был месяцем горячим: в прессе были опубликованы резкие нападки на Дэн То, тогдашнего главного редактора «Жэньминь жибао»; уже известна была первая жертва «культурной революции» — мэр Пекина Пэн Чжэнь, влиятельный член Политбюро; тусовавшиеся в пекинских университетах хунвэйбины создавали первые отряды, ещё через день-два начиналась вакханалия: погромы, травля, издевательства. Момент, что называется, критический. И вдруг полное замалчивание заседания ЦК. Неужели оно не попадало в струю? Тогда о чём же, если не о текущем моменте, говорил на пленуме Линь Бяо?
Его речь состояла из двух частей. В первой — спрессованное до предела изложение династийной истории Поднебесной со времён оных до провозглашения КНР. Вот полный, дословный текст первой части:
«На протяжении всей истории нашей страны правительство менялось через каждые 10, 20, 30 или 50 лет, иначе говоря, через короткие промежутки времени. Произошло множество перемен. Вскоре после провозглашения династии Чжоу вспыхнуло восстание. Период Чунь-Цю был периодом сумятицы. Мелкие государства воевали друг с другом и люди убивали друг друга. Шан Чэнь, сын императора Чэня, окружил с помощью своей охраны дворец и предложил императору покончить жизнь самоубийством. Стремясь выиграть время, император попросил, чтобы прежде чем он умрёт, ему было позволено отведать блюдо, приготовленное из медвежьей лапы, которое он очень любил. Шан отказал ему в этом, заявив: „Приготовление такого блюда займёт много времени“. Император покончил с собой.
Гуан — принц государства У убил главного министра и захватил власть. Министры государства Цинь убивали друг друга в борьбе за власть. Такие инциденты случались часто в периоды Чунь-Цю и Чжаньго. Люди захватывали власть, не только убивая друг друга, но также с помощью хитрости и интриг. Классическим примером может служить Лю Бувэй, приведший к Циню женщину по имени Чжао, которая должна была стать женой императора. Она родила сына, который стал Цинь Ши-хуаном — первым императором. Но мальчик был усыновлён Лю Бувэем и в первые годы правления Цинь Ши-хуана вся власть была сосредоточена в руках Лю.
Цинская династия просуществовала всего лишь 15 лет. Сам Цинь Ши-хуан правил только 12 лет. Министр Чжао посадил на трон другого императора Цинь Эрши. Последний убил своих братьев и сестёр. В общей сложности он убил 26 человек.
Гао Цзу — основатель ханьской династии правил 12 лет. После него императрица Лю захватила власть у семейства своего мужа, но два министра, объединившись, свергли семейство Лю.
Сы Маянь из династии Цзинь правил в течение 25 лет, затем принцы подняли бунт и стали убивать друг друга. Во времена династий Севера и Юга велась постоянная борьба за политическую власть. Император Вэнь из династии Суй был убит своим собственным сыном, который стал императором Яном. Ян убил своего брата. На этот сюжет написана опера Ю Хэцао. Ли Шиминь из династии Тан убил двух своих братьев. Этот случай известен как инцидент у ворот Сюань У. Чжао Гуанъин из династии Сун правил 17 лет, а затем был убит своим младшим братом. На этот сюжет также написана пекинская опера. Кублай — основатель юаньской династии — правил Китаем 16 лет. А его сын — 13 лет. Но борьба в императорском дворце вспыхнула между внуками и их жёнами, и многие из них были убиты.
Первый император Минской династии правил 31 год. После его смерти четвёртый его сын восстал против внуков старого императора и на протяжении трёх лет обе стороны убивали друг друга. Дворец в Нанкине был сожжён, и никто не знает, погиб ли император Вэнь в огне или спасся.
В последние годы правления императора Гуансюя из династии Цин один из его сыновей вознамерился захватить власть. И убийства продолжались. Говорят, что Гуансюй хотел передать власть своему четырнадцатому сыну, но принц Юн, четвёртый сын императора, изменил иероглиф „четырнадцатый“, преобразовал его в „четвёртый“ и таким образом захватил власть. Утверждают, что Гуансюй был отравлен принцем Юном. После вступления на престол Юн убил многих из своих братьев.
Когда была провозглашена республика, Сунь Ятсен стал президентом. Но через три месяца власть захватил Юань Шикай. Через четыре месяца он провозгласил себя императором, но, в свою очередь, также был свергнут. Затем последовала многолетняя борьба между милитаристами. Впоследствии Чан Кайши захватил власть и истребил много людей».
Таким образом, в первой части своего выступления Линь Бяо посчитал необходимым напомнить участникам заседания ЦК о том, что история Китая, начиная с древнейших времён,— это длинная, сплошная цепь насилия, совершавшегося теми, кто рвался к власти, кто готов был ради власти убить своего отца, своих братьев и сестёр, любого, кто оказывался у него на пути. Доведя свой экскурс в историю до середины ⅩⅩ века, Линь наглядно продемонстрировал присутствовавшим на заседании представителям власти, как в Китае завоёвывали политическую власть и как её теряли. Причём сделал это в тот момент, в мае 1966 года, когда из уст самого председателя КПК раздавались команды «Огонь по штабам!», «Бунт — дело правое!», когда в соответствии с этими приказами «маленькие генералы Мао» — хунвэйбины — ввергали Поднебесную в невиданный за всю её историю хаос с погромами, убийствами, шельмованием и истязанием ни в чём не повинных людей, с осквернением многовековых традиций, обычаев, нравов, с попранием человеческого достоинства. Речь Линь Бяо явно не корреспондировалась с действиями «великого кормчего». А точнее, шла вразрез с его линией на развязывание «культурной революции».
Но «самый верный ученик Мао» сделал так, чтобы избежать обвинений в противодействии своему «учителю».
«Мы, коммунисты, взяли власть 16 лет тому назад,— заявил он во второй части своей речи.— Могут ли отнять у нас пролетарскую политическую власть? Сейчас имеется много признаков назревающего контрреволюционного переворота. Есть люди, которые готовы убить, чтобы захватить власть в свои руки и свергнуть социализм. Мы уже видели это на примерах Ло Жуйцина, Пэн Чжэня, Лу Динъи и его жены и Ян Шанькуня. Эти люди подобны пороху. Они проникли в партийное руководство и располагают силой в армии. Если бы им удалось объединиться, они могли бы совершить переворот. Ло Жуйцин имел влияние в армии, Пэн Чжэнь — в секретариате партии. Руки этих двух деятелей простирались далеко. В области культуры и идеологии у них был Лу Динъи. Ян Шанькунь снабжал их разведывательными данными. Культура, газеты, радио и вооружённые силы действуют сообща. Первые трое формируют общественное мнение, последние обладают оружием. Те, кто контролирует эти два канала власти, могут совершить контрреволюцию. Они могут установить своё верховенство как на собраниях, так и на поле боя. Если мы не будем проявлять бдительность, в один прекрасный день может снова возникнуть случай для такого захвата власти. Этим случаем может быть стихийное бедствие или война».
И далее:
«Когда председатель проживёт 100 лет, может наступить политический кризис и наша обширная страна с 700-миллионным населением может быть ввергнута в смуту. Вот в чём проблема… Председатель Мао в добром здравии, и мы ликуем, живя в тени Великого древа. Председателю Мао уже за 70, но он в добром здравии и может прожить до 100 лет».
Как заметил гонконгский еженедельник «Чайна ньюс аналисис», «эта удивительная речь выражает в сжатой форме не только то, что думал Линь Бяо, он несомненно имеет свои взгляды, но также многие вещи, которые наверняка распространены среди пекинских лидеров. Два из этих утверждений особенно поразительны, а именно, что вооружённые силы представляют собой в конечном счёте источник власти, как сам Мао достаточно ясно выразился об этом в своём изречении „Винтовка рождает власть“, и что работа ведётся не посредством митингов и парламента
». И далее: «Линь Бяо задал самый серьёзный вопрос: что будет после смерти Мао? Страна,— заявил он,— будет переживать критический период. В его выводе, хотя этот вывод и не был выражен словесно, нельзя было ошибиться. Страна нуждается в преемнике, в сильном человеке, который обладает оружием. Страна должна иметь такого преемника. Всякий, кто будет выступать против него, будет стёрт с лица земли
».
Дальнейшие события показали, что авторы комментария в «Чайна ньюс аналисис» сумели «нащупать» подтекст «удивительной речи» Линь Бяо в мае 1966 года, когда маховик «культурной революции» ещё только начинал двигаться. Подтекст же сводился к следующему: «Лесной барс», как минимум, не одобрял идеи Мао с проведением «культурной революции», но говорить об этом открыто не решался. Он всего лишь напомнил о том, что видит в ней очередное звено в непрерывающейся с древнейших времён цепи кровавой борьбы за власть, жестокой междоусобицы, заполнившей до краёв всю историю Поднебесной. Возможность же покончить с этой губительной для китайского народа традицией он видел в том, чтобы, опираясь на «винтовку, которая рождает власть», на армию, перехватить эту самую власть у «великого кормчего», обещавшего стране нескончаемую «классовую борьбу» и рецидивы «культурной революции» через каждые 5—7 лет. «Перехватить» мирно, в образе «самого верного ученика» и «наследника» председателя Мао. Он, разумеется, понимал, чем чревата его двойная игра — отсюда и «котельная»-крепость в Бэйдайхэ. Но это не остановило его. И в 1969 году, после Ⅸ съезда КПК, он почувствовал себя признанным правителем Поднебесной. Не сдался только сам Мао. С его благословения в/ч № 8341 сумела восстановить прежний порядок вещей. Сцена вновь начала вращаться в театре Мао.
Вместе с Линь Бяо с неё исчезли четыре члена Политбюро, его сторонники: Хуан Юншэн, начальник Генерального штаба НОАК, У Фасянь, командующий ВВС Китая, Ли Цзопэн, политический комиссар ВМС и Цю Хуэйцзо, начальник Управления тыла НОАК. А за ними многие и многие рангом пониже. Не только армия, но и вся страна переживала шок. Как уже упоминалось, даже Дэн Сяопин был настолько ошеломлён смертью «наследника», что не решился сообщить об этом вслух своим домочадцам. О том, что творилось в Китае в связи с «исчезновением» Линь Бяо, меньше других был осведомлён посол в Улан-Баторе Сюй Вэньи, который непосредственно решал на месте, во взаимодействии с монгольской стороной, вопросы, связанные с катастрофой «Трайдента». Пекин не посчитал нужным как-то проинформировать его, подсказать, как ему следует вести себя с учётом подоплёки случившегося. Послу оставалось лишь полагаться на интуицию и личный дипломатический опыт. «Картина места происшествия
,— пишет он в своих воспоминаниях,— укрепляла во мне ощущение, что проблема — крупная и сложная. Я сказал себе, что при решении задач ликвидации последствий инцидента нужно проявлять осторожность, внимательность и взвешивать всё по многу раз
».
Понять посла нетрудно. Ведь «в трупе номер 5 был опознан Линь Бяо, в трупе номер 8 — его жена Е Цюнь, труп номер 2 — Линь Лиго, сын Линь Бяо. Среди вещей, принадлежавших погибшим, был обнаружен пропуск номер 002 в военно-воздушную академию на имя Линь Лиго
»,— свидетельствует Сюй Вэньи.
Кроме того, был опознан шофёр Линь Бяо и три члена экипажа. Их установили по одежде и документам.
Обращало на себя внимание то обстоятельство, пишет посол, что тела были изуродованы не так сильно, как это случается при авиационных катастрофах. Похоже было, что никто из пассажиров «Трайдента» не собирался умирать. Они готовились к экстренной посадке с возможными повреждениями шасси самолёта, поскольку садился он не на бетонную полосу аэродрома, а на грунт. Ни у кого из пассажиров на руках не было часов. Все они были без обуви. Складывалось впечатление, что ещё до посадки они сделали всё, чтобы избежать возможных ранений при приземлении. Самолёт производил экстренную посадку по неизвестным причинам, люди на борту готовились к ней, но во время касания земли самолёт потерял устойчивость, произошло возгорание из-за удара правого крыла о землю.
…Судьба трупов решилась достаточно быстро. Представители МВД Монголии объяснили китайским дипломатам, что у них нет традиции кремации, что тела можно лишь предать земле. Но для этого нужно выбрать подходящее место. По монгольскому обычаю, могила должна быть на возвышении, с тем чтобы «умерший мог с утра до вечера видеть солнце
». Китайцы согласились с этим и, в свою очередь, предложили установить на месте захоронения вертикальный знак с надписью «Могила девяти товарищей, погибших 13 сентября 1971 года на самолёте китайской авиакомпании
», а ниже указать: «От посольства КНР в Монголии
». Кроме того, было предложено положить на могилу обломок самолёта, например, крыло, на котором значилось «Китайская авиакомпания
».
16 сентября в 10 часов утра девять белых гробов были поставлены рядом с трупами. Китайские дипломаты вновь сфотографировали их. Затем монгольские солдаты понесли гробы с телами погибших к могиле длиной 10 метров, шириной 3 и глубиной 1,5 метра, вырытой на возвышенности.31
‹…›
Истинный сын чжунхуа
‹…›
Наконец, Гу Шуньчжан предал ранее арестованного гоминьдановцами, но так и неопознанного руководящего работника ЦК Юнь Дайина, который вскоре после его опознания предателем был казнён. Не менее чувствительным ударом для партии и лично Чжоу Эньлая стала измена Генерального секретаря ЦК КПК Сян Чжунфа.
Простой рабочий, не имевший практически никакой теоретической подготовки, никаких политических знаний, не обладавший ни организаторскими, ни пропагандистскими способностями, он был избран генеральным секретарём партии исключительно по протекции Коминтерна — в Москве хотели видеть во главе КПК представителя китайского пролетариата. И это сделали, хотя ни для кого не было секретом, что фактически всей текущей работой в ЦК и партии в целом руководил Чжоу Эньлай вместе с другими опытными партийными деятелями.
«Сян Чжунфа,— негодует Мао Мао,— никогда не соблюдал дисциплины, более того, даже взял себе в наложницы женщину из публичного дома».
И далее Мао Мао ссылается на воспоминания Чэнь Цзуньин, супруги Жэнь Биши:
«Когда товарищ Чжоу Эньлай узнал об этом, он попросил мою мать пожить с этой женщиной, чтобы наблюдать за ними. Эньлай тогда решил переправить Сян Чжунфа в советский район, и поэтому поселил его наложницу в гостиницу, а самого Сян Чжунфа — у себя дома, предупредив, чтобы тот не выходил на улицу. Но Сян Чжунфа, воспользовавшись отсутствием Эньлая, однажды тайком отправился навестить свою подружку и остался у неё. На другой день он вызвал такси, был опознан шофёром, который тут же сообщил всё полиции, и Сян Чжунфа арестовали. Это случилось 22 июня 1931 года. А 24 июня Сян Чжунфа изменил».
О предательстве генсека Чжоу Эньлай узнал сразу. И несмотря на поздний час, в 11 часов вечера, срочно перебрался вместе с Дэн Инчао и Цай Чан во французский отель. А утром следующего дня сотрудники Особого отдела скрытно наблюдали за тем, как к дому, в котором ещё вчера проживал Чжоу Эньлай, подъехали полицейские вместе с Сян Чжунфа, как тот вынул из кармана ключ от входной двери, открыл её и вошёл с полицейскими внутрь. Но дом был пуст, а предательство генсека стало фактом.
Трудно сказать, сколь значительный ущерб причинила бы эта измена партии, если бы не поспешность самого Чан Кайши. Об аресте Сян Чжунфа ему сообщили незамедлительно, ещё до того, как следователи полиции начали его допрашивать.
То ли Чан Кайши полагал, что генсек КПК — «крепкий орешек» и его не удастся расколоть, то ли опасался, что соратники попытаются освободить его, но как бы то ни было, генералиссимус поспешил отдать приказ незамедлительно расстрелять «коммунистического бандита». «Крепкий орешек» оказался трусом, но приказы Чан Кайши не обсуждались. Предателя расстреляли. Для КПК это был лучший исход измены. На путь измены встал и Хэ Цзясин, который только-только возвратился вместе со своей женой из Советского Союза. 15 апреля 1928 года он выдал гоминьдановцам члена Политбюро ЦК КПК Ло Инуна, который на допросах не проронил ни слова и был расстрелян.
В августе 1929 года секретарь Военной комиссии ЦК Бай Синь переметнулся на сторону Чан Кайши и выдал пятерых своих товарищей: Пэн Бая, Ян Иня, Янь Чаньи, Син Шичжэня и Чжан Цзичуня, направлявшихся на заседание комиссии. Лишь одному из них удалось спастись. Результатом измены Дай Бинши стал арест семерых ответственных сотрудников аппарата ЦК в Шанхае.
И это далеко не полный перечень предательств, с которыми Чжоу Эньлаю, как ответственному за всю текущую деятельность партии, пришлось столкнуться в его шанхайский период жизни.
…Летом 1931 года Чжоу Эньлай по решению ЦК КПК нелегально выехал из Шанхая в Центральный советский район. Загримировавшись под христианского священника-миссионера, он сумел успешно миновать многочисленные проверки и облавы, которые регулярно устраивались гоминьдановской полицией.
17 ноября 1931 года на Ⅰ Всекитайском съезде представителей советских районов Китая его избирают в состав Центрального исполнительного комитета Китайской советской республики, а также вводят в состав Реввоенсовета республики. Осенью же 1932 года назначают политкомиссаром Красной армии вместо снятого с этой должности Мао Цзэдуна. На этом посту Чжоу Эньлай проявляет свои прекрасные качества организатора революционных вооружённых сил, много делает для того, чтобы мобилизовать население…32
‹…›
…К «основным недостаткам
» Ⅵ съезда КПК [Чжоу Эньлай] отнёс «активное участие
» в нём представителей Коминтерна и отсутствие на нём Мао Цзэдуна и Лю Шаоци. Упомянул и о том, что руководители Коминтерна в 1940 году заявляли ему, что «всё ещё опасаются, как бы мы не отошли слишком далеко от рабочего класса
».
Чжоу Эньлай не скупился на самокритику. Так, выступая в партийной школе при ЦК КПК в Яньани, он, по существу, впервые ознакомил широкий партийный актив с предысторией созыва Ⅵ московского съезда КПК и обсуждавшимися на нём вопросами, подробно рассказал о деятельности Коминтерна, его задачах и целях, детально проанализировал теоретические проблемы китайской революции. Аудитория слушала его, как зачарованная.
Но такая самокритика явно не устраивала Мао Цзэдуна. И ему ничего не оставалось, как дать указание оставить Чжоу Эньлая в покое. «Товарищ Чжоу Эньлай
,— пояснил он,— слишком много занимается самокритикой
».
В апреле 1945 года на Ⅶ съезде КПК Чжоу Эньлай в очередной раз был избран в Политбюро и Секретариат ЦК КПК.
28 августа 1945 года вместе с Мао Цзэдуном он вёл в Чунцине переговоры с Чан Кайши и 10 октября от имени КПК подписал мирное соглашение с гоминьданом.
1 января 1946 года в качестве официального представителя КПК Чжоу Эньлай принял участие в трёхсторонних переговорах между КПК, гоминьданом и представителями США о прекращении военных конфликтов и восстановлении путей сообщения в Китае. Затем возглавил делегацию КПК на созванной в Чунцине 1-й сессии Политического консультативного совета представителей различных политических партий и общественных организаций Китая.
25 марта 1949 года вместе с центральными учреждениями КПК Чжоу Эньлай прибыл в Пекин. В качестве главы делегации КПК принял участие в мирных переговорах с делегацией гоминьдана о прекращении гражданской войны.
21 сентября 1949 года в Пекине на учредительной сессии Народного политического консультативного совета Китая, на тот момент — органа высшей власти, он выступил с докладом по проекту «Общей программы НПКСК», временной конституции, и фактически руководил работой сессии.
А 1 октября 1949 года стоял на трибуне Тяньаньмэнь рядом с Мао Цзэдуном и слушал, как тот провозглашает создание Китайской Народной Республики. Почему Мао Цзэдун, а не он?
…К моменту провозглашения КНР ни у одного из высших руководителей КПК не было такого впечатляющего послужного списка, как у Чжоу Эньлая. Он активно участвовал в создании КПК и формировании её вооружённых сил, в национальной революции 1925—1927 годов и организации партийного подполья в чанкайшистском тылу, в строительстве советских районов и антияпонской войне. И везде его роль была не менее, а точнее — более яркой, чем роль того же Мао Цзэдуна. При этом везде и всегда его украшали скромность и простота.
Вот как высказалась о Чжоу Эньлае соратница и вдова Сунь Ятсена Сун Цинлин:
«Настоящий коммунист и как человек, и как политический деятель, премьер Чжоу жил скромно и просто, был всегда доступен, всегда среди масс трудящихся, как один из них… благородный, неутомимый, бесстрашный, с горячим сердцем борец и труженик, который был любим народом за то, что любил народ, и был способен побеждать всех врагов и объединять всех, кого только можно объединить во имя движения вперёд».
Член делегации КПК на 7-м конгрессе Коминтерна Го Шаотан, знавший Чжоу Эньлая ещё с 1928 года, выделяет его удивительную способность убеждать спорящих в необходимости достижения разумного компромисса.
«После завершения работы Ⅵ съезда КПК,— подтверждает свои слова Го Шаотан,— Чжоу Эньлай успешно и довольно быстро примирил враждовавшие между собой группировки китайских студентов, обучавшихся в Университете имени Сунь Ятсена в Москве».
А вот что пишет о Чжоу Эньлае в своих воспоминаниях М. С. Капица:
«Чжоу Эньлай был красивым человеком; лицо приветливое, с густыми бровями и ямочками на щеках, рост средний. Живой, моторный, он часто смеялся, был приятным собеседником. Ему чужды были важная поза, высокомерие. Он был ровен со всеми. За столом мог залпом выпить одну-две рюмочки маотая, ел с аппетитом…
Чжоу Эньлай, хотя и был более образован, чем Мао Цзэдун, судьбой предназначался на роль канцлера при императоре и за рамки этой роли никогда не выходил. Часто действовал как амортизатор при столкновениях в китайском руководстве».
Но почему так несправедливо распорядилась судьба? Ответ на этот вполне закономерный вопрос дал ещё в 1938 году сам Чжоу Эньлай.33
‹…›
В полночь 16 января Чжоу Эньлай позвонил по телефону Ван Гуанмэй и посоветовал ей и Лю Шаоци не падать духом и постараться «выдержать испытания
».
Но вскоре Лю Шаоци, а вслед за ним и Ван Гуанмэй были арестованы. Чжоу Эньлай уже ничем не мог им помочь.
…16 февраля 1967 года во время совещания в зале Хуайжэньтан произошёл инцидент, вошедший в историю «культурной революции» под названием «февральское противотечение». Это была открытая антимаоистская акция по противодействию «культурной революции». Как следовало из дацзыбао, расклеенных позднее хунвэйбинами, «февральское противотечение включало в себя девять человек, а именно Чжу Дэ, Чэнь Юня, Чэнь И, Ли Сяньняня, Дэн Цзыхуэя, Е Цзяньина, Не Жунчжэня, Сюй Сянцяня и Тань Чжэньлиня. Трое из них были заместителями председателя Военного совета ЦК КПК, остальные — видными руководителями приблизительно на уровне заместителей премьера
».
На упомянутом совещании, говорилось далее в дацзыбао, «Тань Чжэньлинь во всеуслышание поносил Чжан Чуньцяо, а другие ругали Цзян Цин и Кан Шэна. Тань сказал: „Я не совершил никаких ошибок. Я не нуждаюсь в защите со стороны кого-то другого. Старые кадры свергнуты. Мне не следовало жить 65 лет, мне не следовало участвовать в революции, не следовало вступать в партию и 40 лет следовать за председателем Мао в деле свершения революции“. Закончив, он хотел удалиться. Всё это выглядело точным повторением „трёх не следовало“ из „Истории Западного флигеля“. Тогда Чжоу Эньлай сказал: „У нас так получится здесь полнейший беспорядок. Не уходи. Ты слишком много себе позволяешь. Вернись!“»
Мао Цзэдун отреагировал на этот бунт незамедлительно.
Как говорилось в дацзыбао, «18 февраля председатель Мао разговаривал с ними и критиковал их. Председатель Мао сказал: „Мы против всякого, кто выступает против Группы по делам культурной революции при ЦК КПК. Вы можете позвать обратно Ван Мина и Чжан Готао, а я и товарищ Линь Бяо вместе с Е Цюнь уедем на юг. Товарищ Цзян Цин останется с вами так же, как и товарищи из Группы по делам культурной революции при ЦК КПК. Вы можете обезглавить товарища Цзян Цин и изгнать товарища Кан Шэна. Всё это вы можете сделать“». Дацзыбао заканчивалась словами: «Председатель Мао был искренне опечален, говоря это».
Против участников «февральского противотечения» тотчас была развёрнута кампания «критики и борьбы». А попросту говоря, на них начали выливать ушаты грязи, клеветы, инсинуаций.
Однако на защиту «бунтовщиков» встал Чжоу Эньлай.
«Товарищи учащиеся, боевые друзья хунвэйбины! — начал своё выступление Чжоу Эньлай на встрече с хунвэйбинами в зале ВСНП.— Вместе со мной сюда прибыли руководитель Группы по делам культурной революции при ЦК КПК товарищ Чэнь Бода, первый заместитель руководителя группы товарищ Цзян Цин, члены группы товарищи Ван Ли, Гуань Фэн, Ци Бэньюй, Му Синь и сотрудник канцелярии ЦК КПК товарищ Ван Дунсин.
Разрешите мне прежде всего передать вам привет от нашего великого вождя председателя Мао и его заместителя товарища Линь Бяо, от ЦК КПК и Госсовета КНР…
Только что представители ряда организаций и групп выдвинули требование развернуть критику ошибок некоторых руководящих товарищей из Политбюро ЦК КПК, Госсовета и некоторых других ведомств и министерств.
Надо сказать, что у некоторых товарищей, о которых вы говорили или даже не говорили, а именно: Тань Чжэньлиня, Чэнь И, Ли Фучуня, Ли Сяньняня, Се Фучжи, а также заместителя председателя Госплана Юй Цюли, в ходе великой пролетарской культурной революции иногда действительно бывали ошибочные суждения по некоторым вопросам; они, возможно, совершали и некоторые ошибочные поступки, выступали с отдельными ошибочными статьями, совершали некоторые принципиальные ошибки. Однако должен сказать, что эти ошибки были допущены в период, когда проводилась буржуазная контрреволюционная линия, за которую несут ответственность Лю Шаоци и Дэн Сяопин, а не эти товарищи. На 11-м пленуме ЦК КПК восьмого созыва были сделаны выводы по этому вопросу. Конечно, проверка и критика ошибок не должны быть ограничены указанным периодом, и если в будущем у них будут ошибки, то их следует подвергать критике. Некоторые из этих товарищей уже выступили с анализом и критикой своих ошибок, другие готовятся это сделать. Надо дать им для этого время. Почему? Дело в том, что эти товарищи находятся на передовой линии нашей партийной и политической работы. Известно, что товарищ Тань Чжэньлинь, например, руководит большой работой в области сельского хозяйства, товарищ Ли Сяньнянь — в области финансов и экономики, товарищ Ли Фучунь руководит работой Госплана, товарищ Чэнь И — министерством иностранных дел, товарищ Се Фучжи возглавляет службу общественной безопасности и отвечает за работу охраны и политико-юридических органов, товарищ Юй Цюли занимается вопросами планирования. Эти товарищи очень загружены работой. В решении важных партийных и государственных дел требуется их ежедневное участие. Свою практическую работу они ведут, сплачиваясь вокруг председателя Мао и заместителя председателя товарища Линь Бяо. Следует сказать, что к ошибкам упомянутых товарищей следует подходить не так, как к другим, поскольку их ошибки по характеру отличаются от ошибок таких представителей буржуазной реакционной линии, как товарищ Лю Шаоци и товарищ Дэн Сяопин, а также от ошибок товарища Тао Чжу, который продолжает проводить буржуазную реакционную линию. Поэтому, высоко поднимая великое красное знамя идей Мао Цзэдуна и подвергая последовательной критике буржуазную реакционную линию, мы должны правильно выбирать направление критики. Критику следует направлять против главарей буржуазной реакционной линии: Лю Шаоци и Дэн Сяопина, против Тао Чжу, против антипартийной группировки».
Из февральских «бунтовщиков» пострадал только Тань Чжэньлинь, да и он отделался лёгким испугом — сняли с работы. Остальных Чжоу Эньлай сумел отстоять. Как ему это удалось?
«Внимательное изучение политической деятельности Чжоу Эньлая за последние два или три года,— писал в 1968 году брюссельский журнал „Courrier de l’Extreme-Orient“,— позволяет сделать вывод, что его поддерживают в основном три главные силы: центральное правительство — Государственный совет, тайная полиция, находящаяся под контролем Се Фучжи, и военные кадры „Новой четвёртой армии — третьей полевой армии“ и „Красной армии четвёртого фронта“ революционного периода».
И далее:
«Премьер Чжоу возглавляет государственный аппарат в течение восемнадцати лет. Его авторитет в этой центральной администрации огромен и его поддерживают шесть ближайших заместителей, которые контролируют важнейшие отрасли».
И эти шесть: Ли Фучунь, Чэнь И, Тань Чжэньлинь, Не Жунчжэнь, Ли Сяньнянь, Се Фучжи.
Добавим лишь, что Ли Фучунь, Чэнь И и Не Жунчжэнь — старые друзья Чжоу Эньлая со времён учёбы во Франции. Кроме того, Чэнь И, Тань Чжэньлинь и Ли Сяньнянь — бывшие командиры «Новой четвёртой армии», а Се Фучжи — выходец из 2-й полевой армии Лю Бочэна.
У Мао Цзэдуна такой опоры не было.
…В сентябре 1970 года Чжоу Эньлай в интервью французскому корреспонденту Франсуа Дебре обронил такие слова: «70-е годы относятся к великой эпохе великих становлений. Я с завистью смотрю на наше молодое поколение. Я вовсе не придаю большого значения осуществлению революции без рассудка. Революционная борьба — это борьба отдельных людей. Каждый человек может терпеть поражение, менять направление и идти по пути прогресса. Важно избрать правильный путь
». Думается, что сам Чжоу Эньлай сумел выбрать для себя правильный путь — путь истинного сына чжунхуа.
…В 1972 году врачи обнаружили у Чжоу Эньлая рак. В попытках спасти любимого народом премьера было сделано 14 операций. Весной 1974 года его здоровье заметно ухудшилось. Его домом стал госпиталь, где он продолжал заниматься делами Госсовета и принимать посетителей, в том числе зарубежных гостей. 13 января 1975 года, несмотря на недуг, он выступил с докладом на сессии Всекитайского собрания народных представителей, в котором изложил программу «четырёх модернизаций». Группировка Цзян Цин окрестила её «четырьмя ядовитыми травами». В феврале 1975 года ему сделали ещё одну операцию. Но болезнь уже нельзя было остановить. 8 января 1976 года Чжоу Эньлай скончался.34
Неважно, какого цвета кошка…
‹…›
…[Дэн Сяопин] обосновался на шестом месте после Мао Цзэдуна, Лю Шаоци, Чжоу Эньлая, Чжу Дэ и Чэнь Юня. Он сохранил за собой пост Генерального секретаря, превратив его из административного в политический. Однако их пути с Мао Цзэдуном окончательно разошлись.
…Когда на советско-китайском саммите 1957 года всплыло имя генсека КПК, Мао Цзэдун с намёком на доверительный характер беседы сказал Никите Сергеевичу Хрущёву: «На равных спорить с Дэном труднее, чем подпереть лестницей небесный свод. Хотя он глухой, но я на совещаниях сажусь от него как можно дальше. Это острая игла, упакованная в вату
». Затем, на мгновение задумавшись, Председатель КПК пророчески добавил: «Его ожидает большое будущее
».
Глухой Дэн, он действительно страдал глухотой на одно ухо, и в самом деле был для Мао иглой, упакованной в вату.
…В феврале 1962 года на расширенном рабочем заседании Центрального Комитета КПК Дэн Сяопин напоминает Мао Цзэдуну: «Мы считаем чрезвычайно серьёзной проблемой то, что принимает решения и действует очень маленькая группа или один человек
». А летом того же года на заседании Секретариата ЦК Дэн говорит о том, к чему приводит такой метод принятия решений: «Валовой объём производства в нашей стране значительно сократился по сравнению с уровнем 1957 года… Крестьяне потеряли веру в коллективное хозяйство. Нашей важнейшей задачей является сейчас повышение производства продовольствия. Поэтому мы можем разрешить и мелкотоварное производство в деревне
». И далее: «Ради увеличения производства пусть это будет даже единоличное хозяйство. Белая ли это кошка или чёрная, главное, чтобы она ловила мышей».
После того как в 1964 году на политической сцена Китая появилась Цзян Цин и начала «реформировать» классическую пекинскую оперу, создавая так называемые «образцовые революционные оперы», Дэн Сяопин стал чуть ли не единственным представителем верхнего эшелона власти, кто демонстративно покидал зрительный зал до окончания очередного просмотра шедевров «красной императрицы». Разумеется, это вызывало приступы бешенства не только у Цзян Цин и её приближенных, но и у самого «великого кормчего».
Хунвэйбинами был предъявлен следующий перечень политических обвинений Дэн Сяопину:
- акции, проведённые в качестве Генерального секретаря партии без соответствующих полномочий;
- осуждение культа личности, что нанесло ущерб положению председателя Мао;
- оскорбление идей Мао Цзэдуна на конференции в 1961 году;
- провозглашение в сельскохозяйственной политике лозунга «Неважно, какого цвета кошка — белая или чёрная, главное, чтобы она хорошо ловила мышей»;
- введение системы учёных степеней и званий в 1963 году;
- «
ослабление руководящей роли партии
» введением устава высшего образования из 60 пунктов в 1961 году; - отклонение от политики председателя Мао в области просвещения, основанной на сочетании умственного и физического труда;
- несогласие с критикой со стороны председателя Мао в области культуры;
- подавление выступлений «революционных студентов» в Пекинском университете;
- подавление массового движения в начале «культурной революции» с помощью рабочих групп.
Обвинения в адрес Дэна заметно отличались от обвинений в адрес Лю Шаоци. Его назвали «предателем, провокатором, штрейкбрехером, цепной собакой империализма, ревизионизма и гоминьдановской реакции, который уже 40 лет ведёт контрреволюционную деятельность
». Ни один из этих ярлыков не достался Дэн Сяопину. Лю и Дэн исчезли с политической арены одновременно — в конце 1966 года. Но один из них исчез навсегда, а другой… до поры до времени.
У Дэна было очень много сторонников среди влиятельнейших лиц в армии. Поэтому его уважали не только друзья.
О нём вспомнили, когда семижильный Чжоу Эньлай всё-таки сдал, из-за неизлечимой болезни. Вспомнили, потому что только такой, как он, мог взвалить на свои плечи то, что лежало на плечах Чжоу, да, к тому же найти общий язык с армией после «исчезновения» Линь Бяо. Правда, Мао Цзэдун мотивировал своё согласие на возвращение Дэн Сяопина иными соображениями.
«Ошибки, совершённые товарищем Дэн Сяопином, очень серьёзны. Но следует отличать их от совершённых Лю Шаоци. 1) В Центральном советском районе он пострадал как один из обвиняемых по делу Дэна, Мао, Се, Гу. 2) У него нет прошлых грехов — он никогда не капитулировал перед врагом. 3) Во время войны он много помогал товарищу Лю Бочэну, имеет боевые заслуги. Кроме того, нельзя сказать, что он не сделал ничего хорошего после того, как мы вступили в города. Например, возглавляя делегацию на переговорах в Москве, он не склонился перед советскими ревизионистами. Обо всем этом я уже не однажды говорил, сейчас говорю ещё раз.
Мао Цзэдун.
14 августа 1972 года».
…12 апреля 1973 года Дэн Сяопин появился на приёме в должности одного из 12 заместителей премьера Госсовета. Однако вскоре становится ясно, что всей текущей работой правительства руководит именно он. На состоявшемся в августе того же года Ⅹ съезде КПК его избирают членом ЦК. Через несколько месяцев он — член Политбюро. А в январе 1975 года — один из заместителей Председателя партии и начальник Генштаба НОАК. В период, наступивший после «исчезновения» Линь Бяо, Дэн Сяопин становится всё более влиятельной, ключевой фигурой. Ссылаясь на указания «великого кормчего», он ведёт свою линию, толкуя и претворяя эти указания в жизнь по-своему. В ускоренном темпе возвращает старые, подвергшиеся гонениям, кадры руководителей на их прежние посты. Планирует на январь 1975 года созыв сессии Всекитайского собрания народных представителей. Начинает коренную перестройку всей деятельности правительства. Ему активно помогает смертельно больной Чжоу Эньлай, который вопреки запрету врачей специально выходит из больницы, чтобы выступить с докладом о работе правительства на сессии ВСНП. У Дэна, как и прежде, на первом плане не вопросы идеологии, а насущные проблемы текущей жизни страны и её народа. Он действует как политический деятель-прагматик.
«Говорят, сейчас кое-кто из наших товарищей занимается только революцией и боится браться за производство
»,— заявил он в марте 1975 года на совещании секретарей партийных комитетов, ответственных за работу в промышленности. В ближайшем окружении Мао это вызывает ярость и негодование. Пропагандистский аппарат, находившийся под контролем тех, кого позже назовут «бандой четырёх», критикует Дэна всё жёстче, все откровеннее. В ответ Дэн в мае того же года на совещании металлургов даёт отпор своим противникам:
«Ведь нашлись же люди, которые называют „реставраторской платформой“ мою мартовскую речь на совещании секретарей, отвечающих за работу в промышленности. Такие люди есть, но их не следует бояться».
Дэн не только говорит, но и действует. Он торопит с реорганизацией руководства в центре и на местах, настаивает на том, чтобы положить конец фракционной борьбе и развернуть партию в сторону экономического строительства. Осенью 1975 года под его непосредственным руководством разрабатываются такие основополагающие документы ЦК, как «Об общей программе работы всей партии и всей страны», определявшей основы политики на перспективу в 25 лет; «О некоторых вопросах ускоренного развития промышленности»; «О некоторых вопросах развития науки и техники. Тезисы к докладу о работе АН КНР», определявшие основы политики в области науки и техники.
Однако Мао Цзэдун и его группа приняли эти документы в штыки. Они не были даже опубликованы. Об их существовании знали лишь кадровые работники и специалисты. В целях противодействия Дэну одряхлевший «великий кормчий» и его окружение разворачивают в декабре 1975 года кампанию «революции в образовании», полностью подтверждавшую курс «великой пролетарской культурной революции». Но Дэн не сдаётся. На различных совещаниях и собраниях, следующих одно за другим, он неустанно доказывает, что спасение Китая — в осуществлении «четырёх модернизаций»: сельского хозяйства, промышленности, обороны, науки и техники — и на это должны быть направлены все усилия партии и народа. Отметив на одном из совещаний неспособность Мао Цзэдуна и его группы вывести страну из тупика, в котором она оказалась в результате развёрнутой «великим кормчим» так называемой «культурной революции», Дэн Сяопин с присущей ему прямотой заявил: «Если человек сидит на толчке, но не может просра…ся, ему не следует собирать очередь у туалета. Он должен уступить место на толчке другому, способному это сделать
». Такого, конечно же, ему простить не могли.
Когда после смерти Чжоу Эньлая 8 января 1976 года само собой встал вопрос о назначении Дэн Сяопина премьером Госсовета КНР, Мао заявил:
«Этот человек никогда не признавал классовую борьбу как решающее звено. Ему всё равно — чёрная кошка или белая кошка, марксизм или империализм. Он противится воле народа и намеревается вывернуть наизнанку прежние решения».
7 апреля 1976 года принимается решение, в соответствии с которым выдвиженец «культурной революции» Хуа Гофэн назначается премьером Госсовета, а Дэн Сяопин лишается всех постов в партии и правительстве. Ему предъявляют обвинение в разжигании «контрреволюционных беспорядков» на площади Тяньаньмэнь накануне и во время Цинмин — дня памяти усопших, 4 апреля.
Там с 30 марта у обелиска Памятника героям стали появляться десятки, а затем сотни венков в память о Чжоу Эньлае, а на самом памятнике — стихи, прославлявшие любимого народом премьера и призывавшие к борьбе с теми, кто хочет предать память о нем забвению. Открытая неприязнь в этих стихах выражалась к Цзян Цин, а следовательно, и к Мао, к его «культурной революции». Всё это группа Мао квалифицировала как «контрреволюционные беспорядки», а ярлык их организатора приклеила Дэн Сяопину.
И всё же расправиться с Дэном, так же как с Лю Шаоци, Мао Цзэдун не осмелился. Он вынужден был сохранить у Дэна партийный билет. Этой «уступки» добился Е Цзяньин, занимавший тогда пост министра обороны. «Если Дэна исключат из партии, я тотчас подам в отставку
»,— заявил он. И Мао не решился оставить армию одновременно без начальника Генштаба и министра обороны. В этом случае большинство командующих могло бы выступить против него и в стране произошёл бы раскол.
На этот раз Дэн находился не у дел недолго. 9-го сентября 1976 года умирает Мао Цзэдун, а меньше чем через месяц оказывается под арестом его группа — «банда четырёх». В 1977 году к активной политической деятельности возвращается Дэн Сяопин.
Немецкий писатель Ули Франц, один из биографов Дэн Сяопина, отмечает:
«Дэн Сяопин с необыкновенной силой преодолел в своей политической жизни троекратное падение, и взлёт, и бесчисленные злокозненные интриги, при этом он каждый раз ещё на один шаг приближается к цели своей жизни. Ни на Западе, ни на Востоке нет человека, прошедшего такой трудный, извилистый, изобилующий препятствиями путь, какой прошёл Дэн Сяопин, и тем не менее столь удачливого политика».
Эпилог
2 сентября 1986 года в Пекине Дэн Сяопин принял репортёра американской телевизионной компании Си-би-эс Майка Уоллеса. Один из вопросов, с которым американец обратился к патриарху китайских реформ, звучал так: «Председатель Дэн! Кажется, что отношения Китая с капиталистической Америкой лучше, чем с советскими коммунистами. Как это могло случиться?
». Дэн ответил: «Китай при подходе к проблемам не считает критерием общественные системы. Состояние отношений между Китаем и США определяется специфическими условиями, и точно так же обстоит дело с отношениями между Китаем и Советским Союзом
».
В том, что Дэн изложил основополагающую официальную позицию Китая по затронутой американцем проблеме, сомневаться не приходится. Неясным лишь осталось одно — какими критериями или критерием руководствуется Пекин в своих отношениях с другими странами, включая великие державы? Если не общественной системой, то чем?
«…Территория нашей страны огромна, население велико, географическое расположение неплохое, побережье имеет большую протяжённость (правда, судов у нас нет). Наша страна должна стать первой в мире с точки зрения развития культуры, науки и промышленности. У нас социалистический строй, нужно немного усилий, и цель может быть достигнута. Иначе зачем нужны усердие и смелость шестисотмиллионного народа? Нельзя допустить того, чтобы мы не стали первой державой в мире за несколько десятилетий. У американцев сейчас имеется не больше десяти водородных бомб и 100 миллионов тонн стали. Я не считаю это чем-то особенным. Китай должен перегнать Америку, произведя на несколько миллионов тонн стали больше, чем США… Китай должен стать не только политическим, но и военным и техническим центром мира».
Так заявил Мао Цзэдун 20 января 1956 года в своём выступлении на заседании Центрального Комитета КПК.35
‹…›
- В пекинской резиденции Мао Цзэдуна.— А. Ж.↩
- Сс. 4—13.↩
- С. 108.↩
- Формоза — Тайвань.— А. Ж.↩
- Вьетнамом, Лаосом и Кампучией.— А. Ж.↩
- Великой Китайской стены.— А. Ж.↩
- Сс. 120—129.↩
- Байгар — рисовая водка.— А. Ж.↩
- Ошибка автора. Хэ вылечилась, в 1947 г. вернулась в Китай и скончалась только в 1984 г.— Маоизм.Ру.↩
- Сс. 138—139.↩
- Сс. 140—142.↩
- Сс. 150—151.↩
- Сс. 161—163.↩
- Серьёзные китаеведы сомневаются в подлинности так называемых записок Владимирова. Например, об этом пишет А. В. Лукин в книге «Медведь наблюдает за драконом».— Маоизм.Ру.↩
- Это, конечно же, неправда. Мао Цзэдун рассказывал свою биографию журналисту Сноу ещё в 1936 году.— Маоизм.Ру.↩
- Сс. 166—175.↩
- Байка, не имеющая документальных подтверждений.— Маоизм.Ру.↩
- Сс. 176—181.↩
- Т. е. методы чжэнфына яньаньского периода.— А. Ж.↩
- Сс. 188—192.↩
- В Пекине.— А. Ж.↩
- Сс. 197—199.↩
- На самом деле, 19 марта 1914 г.— Маоизм.Ру.↩
- Бэйпин — тогдашнее название Пекина.— А. Ж.↩
- Разумеется, сказанное выше об источниках (сплетнях в эмигрантской среде) не даёт никаких оснований для такого заключения — Маоизм.Ру.↩
- Сс. 204—213.↩
- Сс. 217—218.↩
- Т. е. дюймов. 5 футов 5 дюймов ≈ 165 см.— Маоизм.Ру.↩
- Сс. 222—232.↩
- Сс. 250—251.↩
- Сс. 262—271.↩
- Сс. 290—291.↩
- Сс. 298—299.↩
- Сс. 304—307.↩
- Сс. 240—345.↩