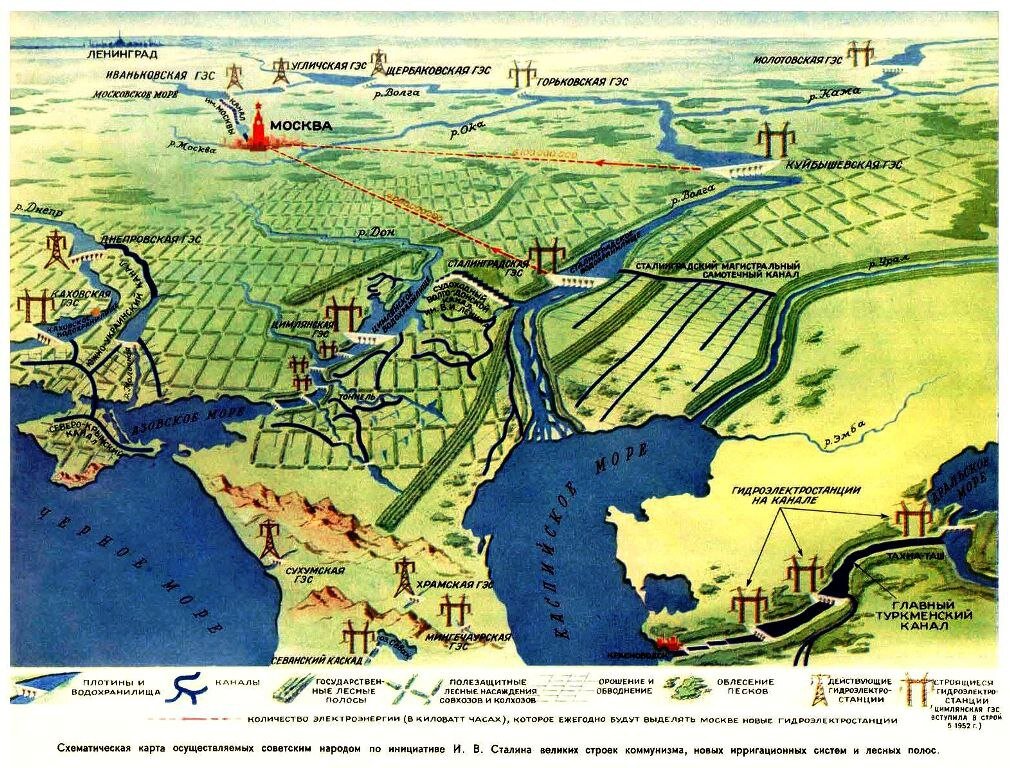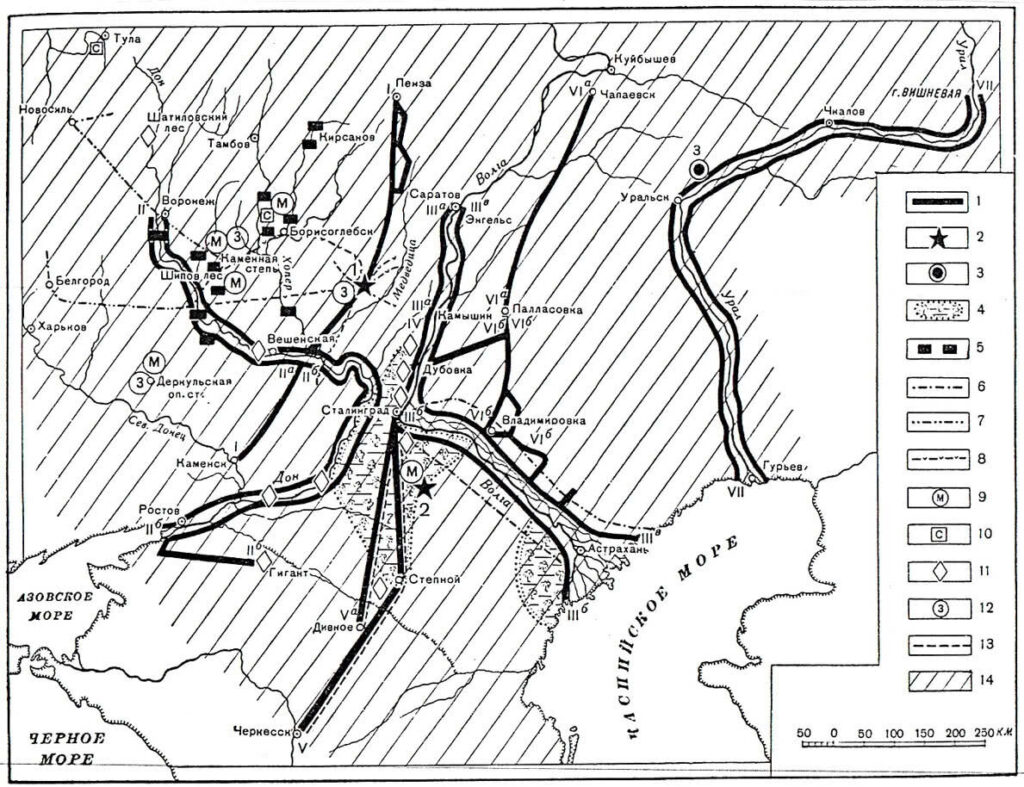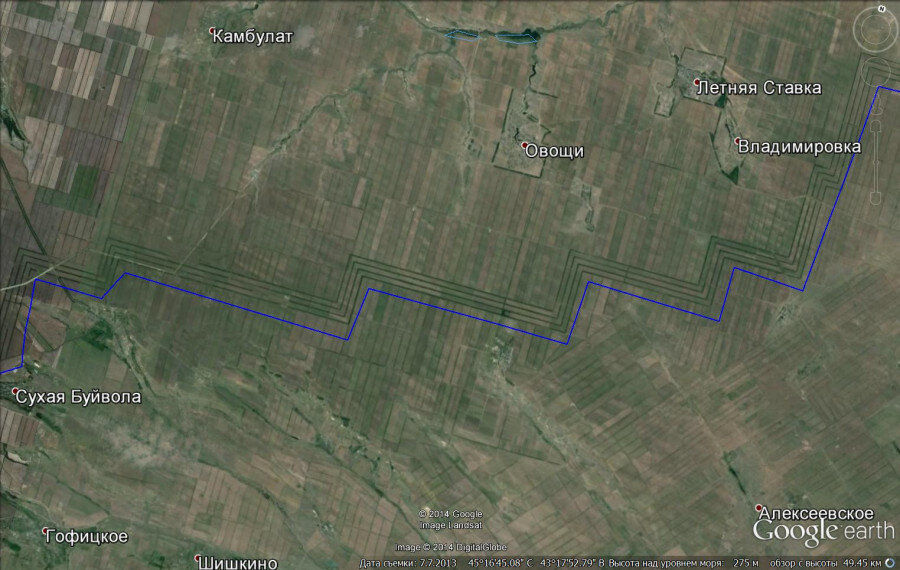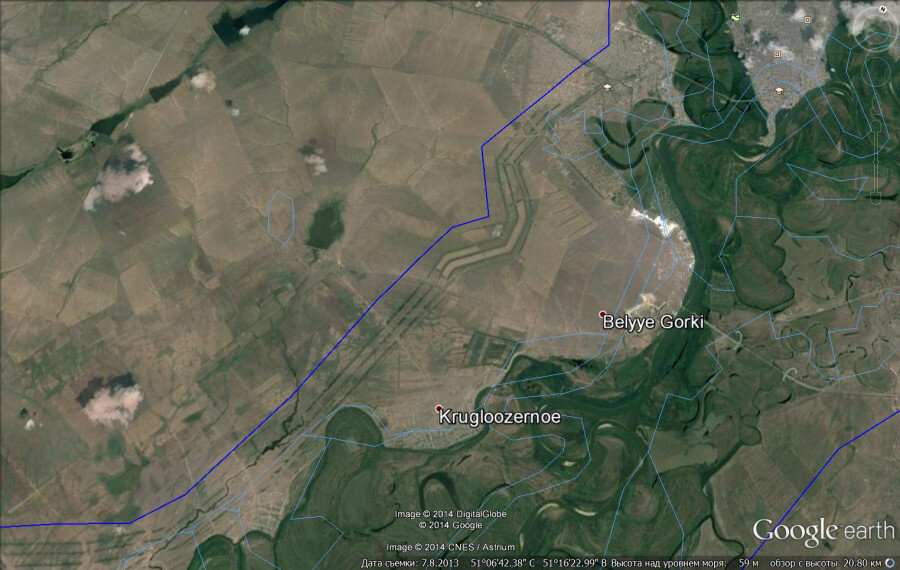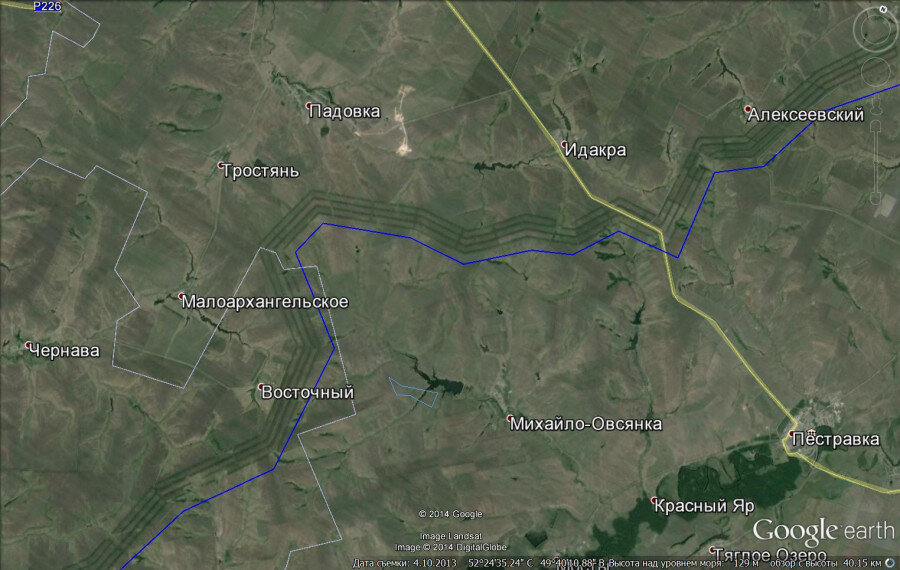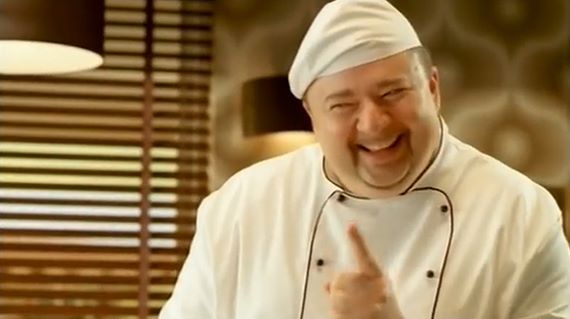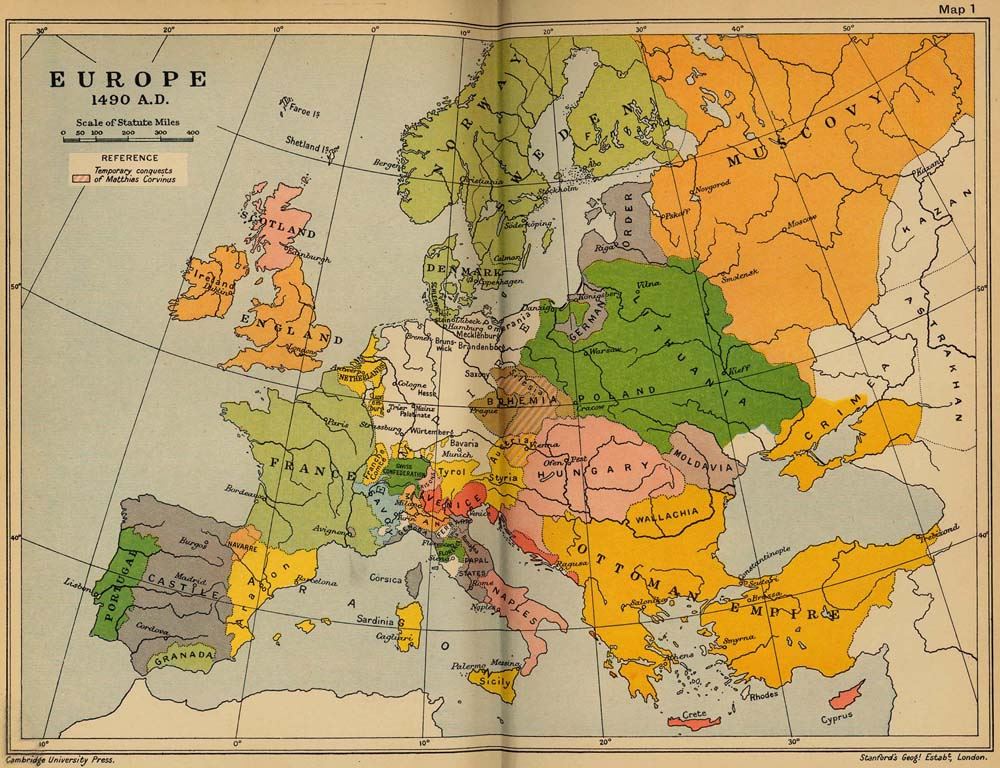Российская маоистская партия никоим образом не поддерживает данный текст. Автор взял из довольно спорной работы Энгельса самые неудачные положения и блестяще довёл их до предела. В результате получился весьма концентрированный и доходчивый текст, практически каждое утверждение или рассуждение в котором — архичушь. Перепечатываем его как прекрасный образчик извращения Ильенковым марксистско-ленинской философии (а также потому, что исходное размещение периодически пропадает из доступа).
Маоизм.ру
Не совершая преступления против аксиом диалектического материализма, можно сказать, что материя постоянно обладает мышлением, постоянно мыслит самоё себя.
Это, конечно, не значит, что она в каждой своей частице в каждое мгновение обладает способностью мыслить и актуально мыслит. Это верно по отношению к ней в целом, как к бесконечной во времени и в пространстве субстанции.
Она с необходимостью, заложенной в её природе, постоянно рождает мыслящие существа, постоянно воспроизводит то там, то здесь орган мышления — мыслящий мозг. И — в силу бесконечности пространства — этот орган, таким образом, существует актуально в каждый конечный момент времени где-то в лоне бесконечного пространства. Или, наоборот, в каждом конечном пункте пространства — на этот раз уже в силу бесконечности времени — мышление тоже осуществляется рано или поздно (если эти слова вообще применимы к бесконечному времени) — и каждая частица материи в силу этого когда-нибудь в лоне бесконечного времени входит в состав мыслящего мозга, т. е. мыслит.
Поэтому и можно сказать, что в каждое актуально-данное мгновение времени мышление свойственно материи,— если в одной точке бесконечного пространства материя губит орган мышления, мыслящий мозг, то с той же железной необходимостью она воспроизводит его в то же время в какой-то другой точке.
Орган, посредством которого материя мыслит самоё себя, таким образом, не исчезает ни в один из моментов бесконечного времени,— и материя, таким образом, постоянно обладает мышлением как одним из своих атрибутов. Утратить она его не может ни на одно мгновение. Более того, приходится допустить, что актуально мыслящий мозг всегда существует в лоне бесконечности одновременно во всех фазах своего развития: в одних точках — в стадии возникновения, в других — в фазе заката, в третьих — на ступени высшего расцвета своего развития и могущества.
«…Материя в своём вечном круговороте движется согласно законам, которые на определённой ступени — то тут, то там — с необходимостью порождают в органических существах мыслящий дух
». В этом смысле диалектический материализм в рациональной форме восстанавливает простое и глубокое положение Бруно — Спинозы: в материи в целом развитие в каждый конечный момент времени актуально завершено, в ней одновременно актуально осуществлены все ступени и формы её необходимого развития. Взятая в целом, материя не развивается — она не может утратить ни на один миг ни одного из своих атрибутов, как не может обрести и ни одного нового атрибута.
Это, естественно, не только не отрицает, но, наоборот, предполагает, что в каждой конечной сфере её существования — как бы велика она ни была — постоянно происходит действительное диалектическое развитие. Но то, что верно по отношению к каждой «конечной» части материи, то неверно по отношению к материи в целом, к материи, понимаемой как субстанция.
Как субстанция, материя не может быть представлена как простая сумма своих «конечных» частей, и все теоретические положения, верные по отношению к каждой из её конечных частей, становятся неверными по отношению к материи в целом, в её вечном, замкнутом на себя круговороте.
По отношению к каждой отдельной конечной сфере её существования верно то, что мышление возникает на основе и после других, более простых форм существования материи, и существует не всегда, в то время как другие формы материи существуют всегда, составляя собой необходимую предпосылку и условие рождения мышления.
Но по отношению к материи в целом, к материи, понимаемой как всеобщая субстанция, это положение уже неверно. Здесь будет верным другое положение:
не только мышление не может существовать без материи (это признаёт всякий материалист, метафизик-материалист типа Гольбаха в том числе), но и материя не может существовать без мышления,— и это положение может разделять только материалист-диалектик, материалист типа Спинозы.
Как нет мышления без материи, понимаемой как субстанция, так нет и материи без мышления, понимаемого как её атрибут.
Представить себе материю в целом — как всеобщую субстанцию,— лишённую мышления как одного из её атрибутов,— значит представить её себе неверно, более бедной, чем она на самом деле есть. Это значило бы в самом теоретическом определении материи как субстанции (поскольку это — не только чисто гносеологическая категория) произвольно опустить одно из его всеобщих и необходимых атрибутивных определений. Это значило бы дать неверное определение материи как субстанции, значило бы свести её к чисто гносеологической категории.
Ленин, как известно, считал совершенно необходимым «углубить понятие материи до понятия субстанции
», ибо только в этом случае она утратит чисто гносеологический смысл.
И как ни неожиданно звучит положение: «Как нет мышления без материи, так нет и материи без мышления», именно в этом заключается единственное принципиальное отличие материализма диалектического, материализма Спинозы — Энгельса — Ленина, от материализма механистического, материализма типа Галилея, Ньютона, Гоббса, Гольбаха. Последнему это положение не по зубам.
Последний понимает мышление только как продукт материи, как одно из свойств материи,— и именно поэтому как свойство более или менее случайное: «…для него тот факт, что материя развивает из себя мыслящий мозг человека, есть чистая случайность, хотя и необходимо обусловленная шаг за шагом там, где это происходит
». Согласно этой точке зрения, мышление и вообще может не произойти,— ибо это лишь более или менее случайное исключение, продукт счастливого стечения обстоятельств,— без всякого ущерба для материи в целом.
«В действительности же материя приходит к развитию мыслящих существ в силу самой своей природы,
— возражает этой позиции Энгельс — а потому это с необходимостью и происходит по всех тех случаях, когда имеются налицо соответствующие условия
». И эти «соответствующие условия
» суть опять-таки не чистая случайность — они сами с той же железной необходимостью создаются тем же самым всеобщим движением, и, следовательно, материя в целом с необходимостью актуально обладает мышлением постоянно и не может утратить его ни на одно мгновение своего существования в бесконечном времени и в бесконечном пространстве.
Следовательно, если философия как наука рассматривает лишь всеобщие (бесконечные) формы существования и развития материи, и если её научные положения касаются только этих форм, то диалектико-материалистическая философия должна содержать в себе не положение: «Нет мышления без материи, но есть материя без мышления»,— а другое положение, заключающее в себе понимание бесконечной диалектики их отношения: «Как нет мышления без материи, так нет и материи без мышления». Это положение гораздо больше соответствует как вообще углу зрения философии на вопрос, так и диалектическому (а не только материалистическому) решению этого вопроса.
Следующий пункт диалектико-материалистического понимания проблемы, мало освещённый до сих пор, но ко многому обязывающий, касается понимания мышления, мыслящей материи, как абсолютно высшей формы движения и развития.
Мышление бесспорно, есть высший продукт всеобщего развития, есть высшая ступень организации взаимодействия, предел усложнения этой организации.
Формы более высокоорганизованной, чем мыслящий мозг, не только не знает наука, но и философия принципиально не может допустить даже в качестве возможного, ибо это допущение делает невозможной самоё философию.
В этом случае рушится тезис о принципиальной познаваемости окружающего мира и делается невозможной иная система философии, кроме скептицизма или агностицизма позитивистского толка. Если материя вообще способна породить какую-то форму движения, более высокую, нежели мыслящий мозг,— форму, которая находилась бы в том же принципиальном отношении к мыслящему мозгу, в каком биологическое например, движение находится к химизму, то такое допущение было бы совершенно равнозначным признанию такой сферы действительности, которая принципиально непознаваема для мышления.
В самом деле, эта гипотетическая (ещё более высокоорганизованная, чем мыслящий мозг) форма развития не могла бы быть отнесена к сфере материальных явлений: она предполагала бы, в качестве своего исторически необходимого и исторически пройденного, преодолённого развитием условия, не только природу до, вне и независимо от мышления существующую, но и самоё мышление. Это была бы некоторая форма развития, которая была бы возможна только после мышления и на его основе. Иными словами, мышление сохранялось бы в ней в качестве «снятого», преодолённого, побочного и несущественного момента — на манер того, как в живом организме превращено в побочную форму его бытия химическое или механическое движение.
Закономерности этой гипотетически-предположенной формы развития не могли бы быть ни сведены к законам мышления, ни выведены (т. е. поняты) из них исходя. Иначе, эта форма развития оказалась бы принципиально непознаваемой для мышления, но — в качестве более высокоорганизованной — господствовала бы над мышлением как некоторая таинственная область действительности, законы которой принципиально непостижимы.
Мы, таким образом, возвратились бы к усовершенствованной концепции Иммануила Канта: мир явлений — как окружающих нас, так и явлений самого мышления — превратился бы в формы внешнего проявления некоторой высшей по отношению к их законам «сущности» — сущности, которая принципиально, как вещь-в-себе, непостижима.
Другими словами, мы этим допущением сделали бы принципиально возможной любую мистику и чертовщину… Мы допустили бы, что сверх природы и сверх мышления существует ещё нечто и это «нечто», в силу своей сверхъестественной сложности, принципиально было бы непознаваемо, непостижимо для мышления.
И безразлично название, которым мы обозначили бы эту более высокую, чем мыслящий мозг, форму развития, форму усложнения организации движения,— суть её осталась бы абсолютно той же самой, что и суть понятия Бога, Провидения, Мирового Разума и т. п.
И эта точка зрения, неизбежно вытекающая из допущения возможности более высокой, чем мыслящий мозг, организации движения в мировом процессе, была бы столь же идеалистической, сколь абсолютный идеализм гегелевской системы, но отличалась бы от последней тем, что необходимо полагала бы эту высшую реальность непостижимой для мышления. Иными словами, точка зрения эта ближе всех была бы к кантовской.
У Гегеля если сверхчеловеческий Разум и допускается, то мышлению всё же приписывается способность развиться до такой высоты, где оно, не переставая быть мышлением, всё же становится равным по своему могуществу этому мировому Разуму. В логике — по Гегелю — законы мышления всё же совпадают с законами абсолюта, становятся соответствующими ему. Но это значит, что мышление — хотя и окольным путём — всё же возводится в ранг абсолютно высшей реальности. В итоге «Феноменологии духа» мышление человека становится тождественным абсолюту, постигает законы, которым подчиняется сам абсолютный разум, а тем самым и превращается в воплощение самой высшей реальности, становится само формой движения, выше и сложнее которой нет и не может быть уже ничего.
И это понимание составило шаг вперёд по сравнению с концепцией Канта. И ясно, что допущение более высокоорганизованной, чем мышление, формы развития мироздания (как бы её ни толковать — материалистически или идеалистически) совершенно равносильно принятию тезиса о принципиальной непознаваемости мира, высших законов, которым он подчиняется в своём существовании.
Диалектический материализм — поскольку он не есть система позитивистски толкуемых научных данных, а система философии как особой науки,— вынужден принять (как и любая философская система, за исключением агностических или скептических), что мыслящий мозг есть абсолютно высшая форма организации материи, а мышление, как способность мозга,— столь же абсолютно высший предел, которого мировая материя может достигнуть вообще в своём поступательном развитии.
Итак, мышление есть абсолютно высший продукт развития мироздания. В нём, в рождении мыслящего мозга, мировая материя достигает такой ступени, на которой исчерпываются все возможности дальнейшего развития «вверх» — по пути усложнения организации форм движения.
Далее путь может идти только «вниз», по пути разложения этой организации,— в чисто биологически-физиологическую в случае умственной деградации или ещё дальше — в простой химизм в случае физиологической смерти мозга.
Путь далее «вверх» исключён. Мыслящая материя мозга, формой движения которой является мышление, есть абсолютно высший и непереходимый предел поступательного развития.
Это — совершенно необходимый вывод всякой научной философии, за исключением, как мы уже показывали, агностической или скептической,— вывод, принудительную необходимость которого признавала всякая система научной философии — Спиноза или Фихте, Гегель или Энгельс.
Различия между материализмом и идеализмом идут по иной линии — по линии истолкования самого мышления и его взаимоотношений с материальным миром. Но в признании мышления как абсолютно высшей формы развития мироздания одинаково сходятся все системы философии. Ибо это признание — необходимое условие существования и развития самой философии. Если не так — то философия вообще не могла бы сделать ни одного ответственного и категорического вывода, не могла бы вообще быть наукой.
Итак, мыслящий мозг с его способностью мыслить есть абсолютный предел развития как поступательного развития. Но поступательный характер развития не есть единственная форма развития. В противном случае оно вело бы в дурную бесконечность. Но истинная бесконечность имеет, как известно, форму круга, круговорота.
Высший продукт развития возвращается путём разложения в свои низшие формы, опять включаясь таким путём в вечный круговорот мировой материи.
И этот грандиозный круговорот, не имеющий ни начала, ни конца, круговорот, в котором мировая материя не утрачивает ни одного из имеющихся атрибутов, не приобретает ни одного нового, заключает в себя, как кольцо, все возможные «конечные» циклы развития.
Круговой характер бесконечности единственно соответствует диалектическому взгляду. Альтернативой этому пониманию может быть только представление, включающее в себя идею «начала» и «конца» мирового развития, «первотолчок», «равное самому себе состояние» и тому подобные вещи.
Итак, мышление — в качестве атрибута (и притом в качестве абсолютно-высшего продукта всеобщего развития) включено в этот вечный, всё время возобновляющий свои циклы, круговорот мировой материи. Оно выступает как одно из звеньев круга развития, как звено, через которое весь круговорот в целом проходит почему-то с железной необходимостью.
Иными словами, мыслящий мозг предстаёт с этой точки зрения как одно из необходимых звеньев, замыкающих всеобщий круговорот мировой материи. В смысле «поступательного» развития это абсолютно высшая точка круга, за нею следует возвращение материи в более элементарные и ранее пройденные формы — в биологию, в химизм, в огненно-жидкую или раскалённо-туманную массу небесных тел, в холодную и недифференцированную разреженную пыль туманностей, в газовый туман междугалактических пространств, в чисто механическое перемещение элементарных частиц и т. д. и т. п.
Отметим здесь же одно важное следствие, которое неизбежно вытекает из признания абсолютно высшей формы развития. Признав — как теоретически необходимое положение — невозможность более высокой, чем мышление, чем мыслящий мозг, формы, мы неизбежно должны, вынуждены принять и «нижний» предел — предел, ниже которого оказывается невозможным существование материи.
До открытия его нам, очевидно, ещё очень далеко. Но теоретически допустить его приходится. Допустив, что материальной организации, более высокой и сложной, чем мыслящий мозг, быть не может по самой природе вещей, мы тем самым признали и противоположный предел — предел простоты организации материи, предельно простую форму движения, относительное «начало» круговорота, в противном случае получается нелепость: в одну «сторону» — в сторону усложнения организации материи и формы её движения — допущен предел, а в другую сторону — в сторону «упрощения» её организации — предположена дурная бесконечность. Энгельс вполне допускает такое состояние, в котором исчезают все специфические свойства материи и остаются только такие свойства, которые характеризуют её как просто материю, полагая, что такое состояние осуществляется «в газовом шаре туманности
». Все вещества в этом состоянии, допускает Энгельс, «сливаются в чистую материю как таковую, действуя только как материя, а не согласно своим специфическим свойствам
».
Добавим, что современная физика в своих попытках вскрыть простейшие законы связи пространства, движения и времени, приходит к идее «квантования» пространства и времени, к идее элементарного «кванта» пространства, времени и движения,— как того предела делимости, в котором — если его перейти — исчезла бы объективная взаимообусловленность движения, времени и пространства. Частица, в которой реально (а не только в абстракции) осуществлена чистая форма механического движения,— частица, которая лишена каких бы то ни было свойств, кроме чисто механических — «механических», разумеется, не в смысле ньютоновской физики, а в смысле теории относительности в её рациональном, в диалектико-материалистическом виде.
Такую частицу, по-видимому, приходится допустить,— частицу, которая лишена химических, электрических и тому подобных свойств. С философско-теоретической точки зрения в этом нет ничего «механистического», но это вывод, который автоматически получается из признания абсолютно высшей ступени организации материи. Признать абсолютно высшую форму невозможно, не приняв её противоположность, абсолютно низшую, абсолютно простейшую форму материи и её движения.
Вместе с атомом исчезают химические свойства, вместе с электроном — электрические свойства материи, и где-то, очевидно, имеется предел, который нельзя перейти, не разрушив механические свойства (т. е. связь простого перемещения с пространственными и временными характеристиками объективной реальности).
Это состояние, может быть, осуществляется и не в «газовом шаре туманного пятна
», как полагал Энгельс,— газовый шар сам, скорее всего, какая-то ступень усложнения взаимодействия,— а в форме «поля», как абсолютно-низшей формы организации взаимодействия материи, как неразложимой далее реальности материи, как абсолютно недифференцированного ее состояния.
Такова вторая предпосылка гипотезы.
Третьей философско-теоретической предпосылкой гипотезы является бесспорное положение, согласно которому «всё, что существует, достойно гибели
», что всякая «конечная» форма существования имеет своё начало и свой конец. Применимо это положение как к ныне существующей солнечно-планетной системе, так и к обитающему на ней человечеству.
Ясно, что где-то во мраке грядущего человечество прекратит своё существование и что вечный поток движения Вселенной в конце концов смоет и сотрёт все следы человеческой культуры. Сама Земля будет когда-нибудь развеяна в пыль космических пространств, растворится в вечном круговороте мировой материи…
Это — далёкая и практически безразличная для нас перспектива — прежде чем это произойдёт, протекут миллионы лет, народятся и сойдут в могилу сотни тысяч поколений. Но неумолимо надвигается время, когда мыслящий дух на Земле угаснет, чтобы возродиться вновь где-нибудь в другом месте бесконечной Вселенной.
Это бесспорная с любой точки зрения перспектива. Печалиться по этому поводу так же нелепо, как и по поводу того, что всё в мире взаимосвязано, что количество переходит в качество, что мысль не может существовать без мозга и т. д.
Этот факт, таким образом, вовсе не есть предмет эмоций, а — предмет понимания.
Но если с практической точки зрения этот факт для нас совершенно безразличен и никак не может повлиять на нашу жизнедеятельность (ведь не складывает же рук индивид, хотя знает, что рано или поздно ему придется покинуть жизнь),— с теоретической точки зрения эта перспектива вовсе не лишена интереса.
Нельзя не отметить, что в той или иной форме эта проблема всегда брезжила в сознании человечества.
В наивно-мистической постановке она известна под названием проблемы конечной цели существования человечества, той высшей цели, ради которой осуществляется в мироздании мыслящий дух и ради которой человечество претерпевает такие страдания и муки.
Ответ, разумеется, всегда носил идеологическую окраску. Осуществление высших моральных целей, нравственного закона, или — как у Гегеля, цели самопознания мирового духа,— все эти разнообразные варианты известны.
Диалектический материализм впервые рационально снял такую постановку вопроса тем путём, что вообще отбросил представление о какой бы то ни было «цели» существования мироздания, и разрешил проблему «цели» в категории всеобщего взаимодействия.
Человечество с его мышлением включено в сеть этого всеобщего взаимодействия, внутри неё оно рождается, развивается и в ней же когда-нибудь исчезнет. Представление о «высшей цели» существования человечества рационально снимается в понимании необходимости его возникновения, развития и гибели внутри и посредством этой всеобщей взаимозависимости всех форм движения мировой материи.
И появление, и развитие, и гибель человечества объективно обусловлены со стороны этой бесконечной системы взаимодействия — в ней, в её понимании приходится искать смысл и оправдание места и роли человечества во Вселенной — искать разгадку того вопроса, который в идеалистическом выражении звучит как вопрос о высшей, о конечной цели существования человечества.
«Историческое начало» истории человека вполне рационально и материалистически объясняется наукой. Биологическое развитие определённой породы обезьян, затем — труд, как социальная форма взаимодействия организма с окружающим миром, как процесс «самопорождения человека», как процесс, для которого характерно саморазвитие, отражающееся в идеологическом сознании в виде представления о «цели», имманентной человечеству.
Вполне рациональное объяснение саморазвитию человека дало учение Маркса — Энгельса, исторический материализм, раз и навсегда покончивший с идеализмом в его последнем убежище.
История человечества предстала теперь как необходимый процесс саморазвития, движущие пружины которого находятся в ней самой, во внутренних противоречиях его развития, и которое не нуждается ни в каких трансцендентных или трансцендентальных целях для своего объяснения.
С этой точки зрения небезынтересно прочертить перспективу в будущее более конкретно, нежели это делалось до сих пор. Что человечество вместе с Землей когда-нибудь погибнет — это бесспорно и не представляет вопроса.
Весь вопрос сводится к тому, как именно это должно произойти. Какие условия сделают гибель человечества столь же неизбежной, сколь и его рождение в лоне всеобщего взаимодействия?
Здесь сразу возникает сомнение — а возможно ли вообще сформулировать сколько-нибудь обоснованный, ответ на этот вопрос, возможно ли тут что-нибудь, кроме поэтической фантазии?
Попробуем сначала установить и подытожить все бесспорные теоретические условия задачи, чтобы посмотреть — достаточно ли их для того, чтобы найти решение хоть на йоту более конкретное, нежели вообще представление о том, что так или иначе, а гибель человечества неизбежна.
Ответ, естественно, может быть найден только на пути более конкретного анализа того всеобщего взаимодействия, внутри которого осуществляется история человечества и которое определяет в конце концов все более или менее отдалённые перспективы всего существующего.
Итак, прежде всего, судьбы человечества тесно связаны с грядущими судьбами Земли и — более широко — с судьбами Солнечной системы. Это, так сказать, то ближайшее звено мирового взаимодействия, которое определяет непосредственно неизбежный конец человечества.
Поэтому-то большинство теоретических гипотез о конце человеческого существования и обращается к представлению о том, что когда-то, во тьме грядущего, постепенно остынет Солнце, истощатся запасы тепла на планете, и человечество уже поэтому начнет клониться к закату.
Это представление до сих пор остаётся единственно продуманным, ибо гибель человечества как следствие трагической случайности (столкновение космических тел и т. п.) не приходится брать в расчёт. Ибо хотя случайность такого рода исключить и нельзя, она не может быть положена в основу теоретического понимания вопроса. Нелепо было бы предполагать, что возникновение человечества обусловлено с железной неизбежностью, а его конец связан лишь со случайностью. И здесь и там имеет место диалектика того и другого. Случайность сама должна быть понята и в случае гибели человечества как форма проявления необходимых процессов. В представлении же о чисто случайном столкновении этой диалектики нет: столкновение небесных тел — это лишь одна из случайностей, могущих иметь место. Здесь же нужна такая случайность, которая не обязательно такова. Нужно найти такую перспективу, которая свершится (даже в том случае, если именно эта, именно такая совершенно специфическая случайность и не произойдёт) через любую другую случайность.
Энгельс, как известно, принимает — как более диалектичную перспективу — гипотезу о постепенном остывании Солнца и Земли.
Перспектива в его описании выглядит так: «…неумолимо надвигается время когда истощающаяся солнечная теплота будет уже не в силах растапливать надвигающийся с полюсов лёд, когда всё более и более скучивающееся у экватора человечество перестанет находить и там необходимую для жизни теплоту, когда постепенно исчезнет и последний след органической жизни, и Земля — мёртвый, остывший шар вроде Луны — будет кружить в глубоком мраке по всё более коротким орбитам вокруг тоже умершего Солнца, на которое она, в конце концов, упадёт
».
Солнечную систему, по-видимому, ждёт именно такая перспектива, и человечество, абстрактно рассуждая, должно разделить с ней именно такую судьбу.
Это — необходимый вывод, следующий из понимания места человека внутри ближайшей среды его существования, внутри ближайшей сферы мирового взаимодействия.
Но возникает вопрос — а нет ли таких фактических обстоятельств, которые перекрывают эту абстрактную возможность? Не слишком ли абстрактно прочерчена перспектива?
Что Солнце и планеты со временем остынут — это бесспорно. Но ведь человечество — и чем дальше, тем в большей степени — перестаёт быть послушной игрушкой внешних обстоятельств. Его могущество возрастает из года в год. Человечество находит всё новые и новые, всё более совершенные способы освобождать запасы тепла, движения, энергии, накопленные в других формах, кроме прямого солнечного излучения.
Чем дальше развивается человечество, тем более и более глубокие клады энергии (тем более могучей, чем глубже она запрятана, чем концентрированнее она накоплена) открываются перед ним и превращаются в условие его существования…
И не выглядит ли в связи с этим нелепой перспектива гибели от недостатка прямого солнечного излучения?
Не выглядит ли нелепой такая перспектива:
— человечество идёт к всё более и более полному использованию энергии и движения внутриатомных (а в тенденции — и ещё более элементарных) структур, и чем дальше забирается «в глубь» материи, тем больше энергии оно оттуда высвобождает, становясь всё более независимым от «готового» солнечного тепла, а с другой стороны,
— оно должно будет погибнуть именно от недостатка прямого «готового» тепла Солнца, попросту говоря, должно будет — и именно на вершине своего могущества — замерзнуть, как беспомощный цуцик, на обледеневающей планете…
Не устраняет ли развитие производительной мощи человечества опасность погибнуть от космического холода, от холода межмировых пространств?
Во всяком случае, по тенденции своей развитие власти человека над внутренними структурами материи и над заключённой в них энергией движения прямо противоположно перспективе погибнуть от недостатка энергии, движения, тепла.
Внешняя природа в тенденции своей лишает человека возможности пользоваться готовым, не им созданным теплом Солнца. Но человек сам создаёт условия своего существования, и «тепло», получаемое им из недр материи, не составляет исключения. Это — тоже условие человеческого бытия, создаваемое самим существованием человека и без него не имеющее места в природе.
Поэтому перспектива, нарисованная Энгельсом в прошлом веке, в свете новейшего развития человечества представляется абстрактной, а потому — неверной.
Было бы совершенной нелепостью, если бы человечество — уже сейчас овладевающее внутриядерными запасами энергии — через миллионы лет оказалось бы беспомощным перед лицом холода, простого недостатка тепла.
Да, готового тепла извне оно будет получать всё меньше и меньше. Но тем больше и больше оно будет производить его само, извлекая «изнутри» материи концентрированные его запасы, которые — это теоретически бесспорно — абсолютно бесконечны в самой мельчайшей обледеневшей частице, носящейся в вихрях межмировых пространств.
Ведь энергия, излучаемая Солнцем, не утрачивается бесследно — она накапливается, аккумулируется в других формах, и надо только суметь её оттуда извлечь.
И нет сомнения, что человечество — тем более под угрозой гибели от холода — сумеет это сделать. Оно уже теперь, когда угроза остывания Солнца практически очень далека, уже сделало немалые к тому шаги. Надо представить себе, что оно может сделать за миллионы оставшихся до этого времени лет! И стоит принять во внимание этот фактор, чтобы отказаться от приведённой выше гипотезы.
Человечество, очевидно, погибнет не так, как рисуется на первый взгляд,— не от холода, не от простого недостатка тепла. По-видимому, от такого предположения придётся отказаться.
Но мы пока сломали единственно продуманное предположение — предположение, опирающееся на понимание места человека в лоне всеобщей взаимосвязи, и не предложили нового взамен. Точно так же приходится отвергнуть и представление о том, что человечество найдёт свой конец в результате физиологического вырождения, физиологической деградации. Физиология — та же природа, а человек идёт к всё большей и большей власти над природой данным материалом своей деятельности.
Добывая аккумулированную внутри элементарных частиц энергию, свободно превращая одни виды движения в другие, одни химические элементы — в другие, как более, так и менее сложные, чем исходные, и управляя одновременно своим собственным физиологическим развитием, направляя его по целесообразному (с точки зрения новых условий) руслу, человечество, по-видимому, имеет все возможности уйти от замерзания, от «холодной» и голодной смерти…
Оно, по-видимому, в силах будет создать — хотя бы в небольшой части пространства — искусственную среду и поддерживать её, сохранять и воспроизводить и без помощи щедрой и даровой энергии Солнца.
Уже сейчас это вполне прорисовавшаяся тенденция развития человечества.
Но чего человечество (мыслящая материя вообще) пережить не в состоянии, несмотря на всю свою власть над природой — какого бы уровня эта власть ни достигла,— это — противоположное холоду межмировых пространств состояние мировой материи — состояние, к которому эволюция миров приводит столь же неизбежно, как и к остыванию,— огненно-раскалённая «молодость» космической материи, состояние раскалённого газа молодой, рождающейся туманности — исходной точки нового космического цикла.
Это огненно-парообразное состояние, в котором все элементы превращены в бешено вращающиеся вихри и где не может принципиально сохраниться никакая искусственно созданная граница, за которой мог бы спрятаться человек, никакая сколь угодно прочная и жароустойчивая «оболочка», отделяющая искусственную среду от остального, от «неочеловеченного» мира,— по-видимому, и оказывается тем абсолютным пределом, за которым уже невозможно существование мыслящей материи. Может быть, человечеству и удастся спастись от смерти на обледеневшей планете. Это принципиально — в перспективе — возможно.
Но никакие усилия не спасут его от смерти в урагане мирового «пожара», который когда-нибудь возвратит огненную молодость нашему мировому острову.
Итак, если холод остывших мировых пространств не является абсолютным пределом существования мыслящей материи (что, конечно, вовсе не исключает того, что в отдельных случаях и он может быть непосредственной причиной гибели, так же, как и случайное трагическое столкновение небесных тел), то в состоянии раскалённого пара, к которому в ходе круговорота неизбежно приходит любая космическая система, этот абсолютный предел, видимо, приходится усмотреть.
Закат, гибель, конец, исчезновение мыслящей материи остается и в этом случае неотвратимым,— принципы диалектики и материализма полностью сохраняются и в данном случае. Но конкретная картина этого финала оказывается несколько иной. Прежде всего, пределы существования мыслящей материи несколько раздвигаются во времени. Неизбежный конец наступит с этой точки зрения несколько позже (хотя это «несколько позже» реально и означает лишние миллионы лет),— и за этот дополнительный срок человечество, несомненно, ещё больше укрепит свою власть над природой, достигнет таких вершин могущества, которые нам сейчас невозможно представить даже с помощью самой безудержной поэтической фантазии.
Но — и это главное — в число условий решения проблемы тем самым включено одно теоретически важнейшее обстоятельство, про которое можно было не вспоминать в том случае, если предполагается, что человечество погибнет от холода на обледеневающей Земле, носящейся вокруг обледеневшего Солнца, но которое выступает сейчас на первый план. Это — вопрос об обстоятельствах, при которых остывающая мировая материя с необходимостью переходит в состояние раскалённого тумана, становится грандиозным ураганом, разогретым на миллиарды градусов Цельсия, собирающим к своему центру все рассеянные излучением запасы движения и тем самым дающим мировой материи космических пространств новую жизнь, угасающую в ледяной пустыне так называемой «тепловой смерти».
Начало этого нового цикла развития космической материи — пункт, в котором рассеянная излучением звёзд материя и ей присущее движение вновь каким-то способом концентрируются в форму раскалённой вращающейся туманности, стягивающей к своему центру все прежде рассеянные в пространстве частицы и энергию их движения,— оказывается абсолютным пределом, в котором уже с неизбежностью исчезают все условия, при которых может существовать мыслящий дух.
Конец мыслящей материи совпадает по времени и по обстоятельствам с началом нового цикла развития материи космических просторов — с пунктом, в котором происходит огненное возрождение умирающих миров.
Этот пункт — в котором материя и движение, безвозвратно утраченные благодаря излучению, каким-то способом вновь концентрируются, накапливаются в форму сгустков раскалённого, ураганно вращающегося газа, пара,— и оказывается тем пунктом, в котором мыслящая материя должна исчезнуть уже абсолютно обязательно.
Но тем самым вопрос о конкретной картине гибели человечества, исчезновения мыслящей материи, ставится в связь с вопросом о тех естественных условиях, в которых становится возможным и неизбежным процесс, посредством которого умирающие от «тепловой смерти» миры возрождаются к новой жизни.
Иными словами, условия огненного возрождения космических систем оказываются одновременно и условиями, при которых делается уже абсолютно неизбежной гибель мыслящей материи, гибель мыслящего духа.
Обе проблемы тем самым сливаются в одну.
И интереснее всего тот факт, что каждая из них, рассматриваемая порознь, в абстракции от другой, до сих пор не разрешена наукой, а может быть (в этом и заключается наша гипотеза), и принципиально неразрешима с помощью такого подхода.
Мы установили, что вопрос о гибели мыслящего мозга нельзя решить вне исследования условий, создаваемых развитием космических систем, внутри которых протекает история развития мыслящего духа, и пришли к выводу, что абсолютная неизбежность этой гибели совпадает с началом огненного возрождения умирающих от «тепловой смерти» миров.
Рассмотрим теперь вопрос с другой стороны — со стороны собственных судеб космических систем.
Не окажется ли, что эта проблема принципиально неразрешима вне исследования тех факторов, которые привносит с собой в ход мирового процесса мыслящий дух, тех условий, которые создаются при его непременном участии?
Иными словами, не окажется ли, что как тот, так и другой процесс нельзя понять вне учёта его взаимодействия с другим? Не окажется ли, что процесс огненного возрождения миров, угасающих в состоянии «тепловой смерти», со своей стороны не может быть понят вне учёта активной роли мыслящего духа в мировом круговороте, точно так же, как гибель духа не может быть понята вне связи с этим космическим процессом?
Проанализируем детальнее условия теоретической задачи, отправляясь на этот раз не от проблемы мышления, а от самих по себе космических условий, от чисто имманентных законов саморазвития и гибели космических систем, внутри которых рождается, расцветает и увядает высший цвет мироздания — мыслящий дух.
Что судьбы мыслящего духа обусловлены судьбами более широких — космических — процессов,— это и мы, таким образом, кладём в основание нашей гипотезы.
Но здесь-то мы как раз и оказываемся перед проблемой, которая до сих пор представляет собой неразрешённую (а может быть, и неразрешимую с той точки зрения, с которой она до сих пор рассматривалась) задачу.
Это — проблема так называемой «тепловой смерти» Вселенной. Коротко выражена эта проблема может быть следующим образом.
Все известные науке небесные тела и системы тел постепенно — через излучение — утрачивают запасы своей внутренней энергии, и утрачивают их безвозвратно, постепенно охладевая в тщетной попытке нагреть хотя бы на миллиардные доли градуса окружающее их пространство.
Движущаяся материя разогретых небесных тел тем самым рассеивается равномерно в межмировых пространствах, превращаясь в холодный обледеневающий пар, температура которого сравнима с абсолютным нулём и лишь на исчезающе-малую величину отличается от него.
Процесс, связанный с излучением тепла в мировое пространство, представляется пока необратимым, причём принципиально необратимым, так что в тенденции всё дело, по-видимому, идёт к тому, что вся мировая материя и присущее ей движение абсолютно равномерно распределяются в межмировых сферах, и вся Вселенная в целом постепенно переходит в состояние «тепловой смерти», т. е. такого устойчивого равновесия, которое исключает всякую возможность обратного перехода к дифференцированному состоянию.
В конце прошлого века Клаузиус подсчитал даже, что мировая материя утратила на этом пути уже 453/454 доли всей активной энергии движения. Вся остальная доля активного движения уже — согласно его расчётам — перешла в намертво связанное состояние, в своеобразное «равное самому себе» состояние «тепловой смерти»…
С философско-теоретической точки зрения это, как показал уже Энгельс,— нелепость, предполагающая «начало мира». Но до сих пор не открыт, не выяснен обратный процесс. Где и как он совершается — неясно. Ясно лишь одно — если бы он где-то и как-то не совершался, Вселенная в целом не могла бы существовать и — в силу бесконечности времени — уже давным-давно превратилась бы в недифференцированную туманность, температура которой во всех её частях абсолютно одинакова и движение абсолютно равномерно распределено между всеми частицами материи, каждая из которых поэтому практически неподвижна и не взаимодействует с соседними каким-либо другим образом, кроме чисто механического…
Известен лишь процесс, который в тенденции своей ведёт именно к такому безжизненному состоянию мировой материи, и неизвестен обратный ему, противодействующий ему процесс — процесс, посредством которого происходит обратное перераспределение движения во Вселенной,— хотя теоретически совершенно ясно, что такой процесс есть, его не может не быть.
Практически дело представляется так:
«…За исключением ничтожно малой части теплота бесчисленных солнц нашего мирового острова исчезает в пространстве, тщетно пытаясь поднять температуру мирового пространства хотя бы на одну миллионную долю градуса Цельсия. Что происходит со всем этим огромным количеством теплоты? Погибает ли она навсегда в попытке согреть мировое пространство, перестаёт ли она практически существовать, сохраняясь лишь теоретически в том факте, что мировое пространство нагрелось на долю градуса, выражаемую в десятичной дроби, начинающейся десятью или более нулями?»
Теоретически ясно, что это не так, что равномерно охлаждённая материя межмировых пространств, в которую превращается постепенно любое небесное тело благодаря излучению, каким-то способом (и этот способ может быть только естественным) обратно концентрируется в сгустки чрезвычайно раскалённого газа и тем самым даёт начало новым звёздам, новым мирам, новым планетным системам.
Но как это реально и конкретно происходит, что это за способ — это до сих пор остаётся открытой загадкой.
Теоретически вопрос, как показал Энгельс, может быть решён только при условии его чёткой постановки, а эта постановка его предполагает диалектико-материалистический взгляд на вещи. С точки зрения материалистической диалектики вопрос этот должен и может быть поставлен только так:
«…если будет показано, каким образом излучённая в мировое пространство теплота становится снова используемой. Учение о превращении движения ставит этот вопрос в абсолютной форме, и от него нельзя отделаться при помощи негодных отсрочек векселей и увиливанием от ответа. Но что вместе с этим уже даны одновременно и условия для решения его»,— это само собой ясно.
Это условие мы сформулировали выше: решение должно основываться на условии теоретически бесспорном, что «обратный» процесс — процесс концентрации рассеянного движения в сгустки раскалённого газа — как-то и где-то постоянно в лоне Вселенной имеет место и составляет постоянное внутреннее условие её существования. И весь вопрос заключается в том, чтобы его установить, найти.
«Неудивительно, что он ещё не решён,— продолжает Энгельс,— возможно, что пройдёт ещё немало времени, пока мы своими скромными средствами добьёмся его решения. Но он будет решён; это так же достоверно, как и то, что в природе не происходит никаких чудес и что первоначальная теплота туманности не была получена ею чудесным образом из внемировых сфер».
Заметим, что и поныне, в середине ⅩⅩ века, вопрос так же не решён, как и в конце ⅩⅨ.
«Столь же мало в преодолении трудностей каждого отдельного случая помогает общее утверждение, что общее количество [die Masse] движения бесконечно, т. е. неисчерпаемо; таким путём мы тоже не придём к возрождению умерших миров, за исключением случаев, предусмотренных в вышеуказанных гипотезах и всегда связанных с потерей силы, т. е. только временных случаев. Круговорота здесь не получается, и он не получится до тех пор, пока не откроют возможности нового использования излучённой теплоты
». Вопрос, таким образом, не может касаться отдельных случаев, а должен быть решён в отношении всеобщего круговорота мировой материи. Этот круговорот в себе, внутри себя, внутри своих атрибутивно-необходимых циклов, должен с необходимостью приводить к возрождению умерших миров в виде раскалённой туманности.
Так что разгадку приходится искать не только конкретно-физически (конкретно-астрономически), но и в общефилософской форме. Иными словами, возможность и необходимость такого возрождения должна быть показана и отыскана внутри, атрибутивно-необходимых форм существования мировой материи — не вне их и не в случайностях, касающихся лишь отдельных случаев.
Ибо в отдельных случаях проблема может быть и решена, но в целом она останется по-прежнему нерешённой.
Итак, проблема в общем виде заключается в следующем: физика и астрономия до сих пор располагают данными, касающимися процесса рассеивания материи и движения звёздных тел — процесса, который ведёт в тенденции к состоянию так называемой «тепловой смерти». Само представление о «тепловой смерти» есть не что иное, как теоретически выраженная тенденция процесса, связанного с излучением теплоты и света в межмировые пространства.
Но естественнонаучное исследование ещё не показало обратного процесса — процесса возрождения умерших миров, процесса превращения обледеневшего пара межмировых пространств в раскалённую туманность.
Что такой процесс каким-то естественным способом, заложенным в самой природе движущейся материи, постоянно происходит — это бесспорный теоретический вывод. Без этого процесса не могла бы естественным путём сохраняться и воспроизводиться в вечности существующая Вселенная, он представляет собой абсолютно необходимое, внутренне полагаемое движением мировой материи, условие существования Вселенной.
Если его нет — то есть «бог», «начало мироздания», «первотолчок», выводящий материю из практически неподвижного состояния «тепловой смерти», и прочая чертовщина и мистика.
Кроме того, представление о том, что «энтропия мира» «не может уничтожаться естественным путём, но зато может создаваться» (это — выраженная в терминах термодинамики идея «тепловой смерти»), равносильно отрицанию всеобщего закона сохранения и превращения энергии. Это представление предполагает, как показал Энгельс, что энергия, активное движение, теряется если не количественно, то качественно.
Закон же сохранения и превращения энергии предполагает, что энергия может сохраняться только в ходе своих качественных превращений, и этот ход не может быть односторонним, необратимым ни в одном из своих звеньев. Все формы движения материи тем или иным способом взаимно превращаются в другие, они взаимно обратимы. Если бы этого не было, то ныне существующая Вселенная не могла бы существовать без постоянного вмешательства сверхъестественных сил, а закон сохранения материи и движения превратился бы в фикцию.
Поэтому вся проблема заключается в том, чтобы выяснить и показать, каким путём, каким естественным способом может быть снова использована излучённая в мировое пространство теплота, где и как эта рассеиваемая излучением материя и движение снова накапливаются в такой форме, которая обратно способна превращаться в чрезвычайно разогретые и плотные скопления, в мировые острова раскалённого газа, стягивающие к своему центру всю рассеянную в окружающих пространствах практически «неподвижную» материю и строящие из неё своё тело — тело будущих звезд, солнц, планетных систем и т. п.
Здесь мы и позволим себе высказать наше гипотетическое предположение относительно того, где и как этот процесс, регулярно возвращающий мировую материю из состояния «тепловой смерти» в состояние раскалённых облаков газа, совершается с необходимостью, заложенной в самой природе движущейся материи.
Гипотеза заключается в следующем.
Почему бы не предположить, что этот обратный процесс совершается при участии мыслящей материи, мыслящего духа — как одного из атрибутов мировой материи,— и что без его участия, без его помощи этот процесс невозможен и немыслим?
Это предположение ни в малейшей мере не затрагивает и не колеблет ни одного — самого несущественного — принципа материализма и материалистической диалектики.
В самом деле, мыслящий дух остаётся высшим продуктом развития материи, её необходимым порождением, её атрибутом.
Развитие мыслящей материи мозга остаётся вплетённым в цепь всеобщего материального взаимодействия и этим взаимодействием в общем и целом обусловливается и определяется.
Материя — как субстанция — и при этом предположении остаётся по природе вещей первичной. Необходимые процессы её развития на какой-то ступени рождают мыслящий мозг как атрибут.
Мыслящая материя мозга — как абсолютно высшая форма движения мировой материи — не порождает из себя ничего сверхъестественного. Напротив — её гибель предстаёт как простое превращение в другие — более элементарные формы движения, её смерть оказывается рождением другой формы движения материи.
И всё новое, что вносит наша гипотеза, заключается лишь в том, что гибель мыслящей материи с необходимостью связана с процессом превращения остывающей материи межзвездных пространств в раскалённую туманность и является необходимым фактором этого последнего процесса.
Ничего антиматериалистического, даже нематериалистического, эта гипотеза в понимание этого процесса не вводит. Мышление само есть естественный процесс, и ничего удивительного нет в том, что оно, как таковое, совершается внутри других естественных процессов и со своей стороны активно влияет на их протекание.
Ведь диалектический и исторический материализм вовсе не отвергают факта обратного воздействия мышления на материальные процессы. В данном случае мы имеем дело с одной из конкретных форм такого обратного активного воздействия. Ничего больше.
Таким образом, все принципы диалектики и материализма не только не ставятся под сомнение, но, наоборот, кладутся в основание гипотезы.
Более того, целый ряд философско-теоретических положений диалектического материализма приобретают при этом несколько более конкретную форму своего выражения, не говоря уже о том, что оказывается принципиально разрешённой проблема «энтропии мира».
В самом деле, если мыслящее вещество мозга — та же материя, а мышление (взятое не в узкогносеологическом аспекте, а в плане его места и роли среди других форм движения и развития материи) — тоже форма движения материи, притом абсолютно-высшая его форма (движение — это «не только перемена места; в надмеханических областях оно является также и изменением качества»), то ничего запретного нет в том, что мышление рассматривается (с точки зрения всеобщего процесса количественно-качественного превращения одних форм движения в другие) как одно из звеньев всеобщего круговорота мировой материи, как одна из форм, в которую превращаются все другие формы и которая обратно превращается в эти другие формы или содействует их взаимному превращению.
При этом — поскольку мыслящая материя мозга есть абсолютно-высший продукт всеобщего развития,— постольку резонно предположить, что в ходе всеобщего круговорота взаимных превращений одних форм движения мировой материи в другие она занимает особое место, играет особую роль — такую роль, которую не могут играть другие, менее сложно организованные формы движения. И эта особая роль, приличествующая его месту в системе форм движения мировой материи — как абсолютно-высшей форме движения,— и рисуется нашей гипотезой.
Реально эта роль представляется так: человечество (или другая совокупность мыслящих существ) в какой-то, очень высокой, точке своего развития — в точке, которая достигается тогда, когда материя более или менее обширных космических пространств, внутри которых человечество живёт, остывает и близка к состоянию так называемой «тепловой смерти»,— в этой роковой для материи точке — каким-то способом (неизвестным, разумеется, нам, живущим на заре истории человеческого могущества) сознательно способствует тому, чтобы начался обратный — по сравнению с рассеиванием движения — процесс — процесс превращения умирающих, замерзающих миров в огненно-раскалённый ураган рождающейся туманности.
Мыслящий дух при этом жертвует самим собой, в этом процессе он сам не может сохраниться. Но его самопожертвование совершается во имя долга перед матерью-природой. Человек, мыслящий дух, возвращает природе старый долг. Когда-то, во времена своей молодости, природа породила мыслящий дух. Теперь, наоборот, мыслящий дух ценой своего собственного существования возвращает матери-природе, умирающей «тепловой смертью», новую огненную юность — состояние, в котором она способна снова начать грандиозные циклы своего развития, которые когда-то вновь, в другой точке времени и пространства, приведут снова к рождению из её остывающих недр нового мыслящего мозга, нового мыслящего духа…
С этой точки зрения делается понятным определение мышления как действительного атрибута (а не только «модуса») материи.
В противном случае мышление не может быть квалифицировано как атрибут.
Ведь в понятие атрибута входит, что данная форма движения материи представляет собой абсолютно необходимый продукт её существования — тем самым абсолютно необходимое, не могущее исчезнуть, условие её бесконечного существования.
Иными словами, характеристика мышления как атрибута предполагает, что оно (как высшая форма движения) есть абсолютно необходимое звено, через которое всё время, вновь и вновь, проходит материя в каждом из конечных циклов её грандиозного круговорота,— такая форма, которую этот круговорот воспроизводит вновь и вновь с железной необходимостью, заложенной в его природе.
Следовательно, появление мыслящего духа в русле мирового круговорота — вовсе не случайность, которой с равным правом могло бы и не быть, а внутренне-полагаемое условие его собственного осуществления. Иначе это — не атрибут, а лишь «модус».
Ведь если предположить, что мыслящий дух рождается где-то на периферии круговорота мировой материи только затем, чтобы вскоре бесследно и бесплодно исчезнуть, вспыхивает на короткое мгновение на остывающей планете лишь затем, чтобы снова погаснуть, оставив после себя лишь развалины материальной культуры, которые столь же быстро развеет по Вселенной поток её нескончаемого движения,— если предположить такую судьбу мыслящего духа, то получается весьма странное понимание «атрибута».
Ведь в этом случае мышление оказывается чем-то вроде плесени на остывающей планете, чем-то вроде старческой болезни материи, а вовсе не высшим цветом мироздания, не высшим продуктом всеобще-мирового развития.
В этом случае мышление, даже если его и продолжать называть «высшим цветом» материи, оказывается пустоцветом — красивым, но абсолютно бесплодным цветком, распустившимся где-то на периферии всеобщего развития лишь затем, чтобы тотчас увянуть под ледяным или огненно-раскалённым дуновением урагана бесконечной Вселенной… Всё действительное развитие мировой материи в этом случае происходит рядом с его развитием, совершенно независимо от него, и его появление абсолютно никак не сказывается на судьбах всеобщего развития.
Мышление превращается в абсолютно бесплодный эпизод, которого с равным правом могло бы и не произойти вовсе без всякого ущерба для всего остального.
Вряд ли такая роль соответствует месту мышления в системе форм движения мировой материи. Высшая форма её движения не может быть самой бесплодной и самой ненужной из всех.
Гораздо больше оснований предположить, что мыслящая материя — как высшая качественно форма движения всеобщей материи — играет немаловажную роль в процессе всеобщего круговорота — роль, соответствующую сложности и высоте её организации.
Почему же не предположить в таком случае, что мышление как раз и есть та самая качественно высшая форма, в которой и осуществляется накопление и плодотворное использование энергии, излучаемой солнцами?
То есть то самое звено, которого пока недостаёт, чтобы стал возможен действительный круговорот, а не односторонне-необратимый процесс рассредоточения материи и движения в межмировых пространствах? Почему бы не предположить, что материя в своём развитии как раз и создаёт с помощью и в форме мыслящего мозга те самые условия, при наличии которых излучаемая энергия солнц не растрачивается бесплодно на простое нагревание мирового пространства, а накапливается в качественно высшей форме её существования, а затем используется как «спусковой крючок», как взрыватель, дающий начало процессу обратного возрождения умирающих миров в форму раскалённой туманности?
Да, в эту качественно высшую форму движения, накапливаемую в виде материальной культуры, в виде власти мыслящих существ над мёртвой материей, в виде мышления и его продуктов,— в эту качественно высшую форму движения превращается ничтожная доля тепла, излучаемого солнцами в мировое пространство. Но количественная малость этой доли вполне компенсируется тем, что она накапливается в качественно высшей форме — в такой форме, в которую сама природа (без посредничества мышления) не может превратить бесплодно растрачиваемую излучением теплоту…
Человечество уже теперь способно высвобождать такие запасы движения, которые помимо него остались бы связанными и мёртвыми в ядерных структурах, что в предположении, согласно которому грядущее человечество окажется способным высвободить из связанного состояния такое количество энергии, которого будет достаточно для того, чтобы превратить остывающую материю нашего звёздного острова в океан раскалённого пара,— в этом предположении нет уже ничего удивительного и мистического.
Материальная и духовная культура мыслящих существ, которая осуществляется в природе очень редко и требует для своего появления чрезвычайно специфичных условий, и оказывается той формой движения, в виде которой происходит концентрированное накопление излучаемого солнцами тепла — тепла, которое по всем другим каналам растрачивается бесплодно, а только в этой форме вновь используется как средство, как способ огненного возрождения замерзающих участков большой Вселенной.
Реально это можно представить себе так: в какой-то, очень высокой, точке своего развития мыслящие существа, исполняя свой космологический долг и жертвуя собой, производят сознательно космическую катастрофу — вызывая процесс, обратный «тепловому умиранию» космической материи, т. е. вызывая процесс, ведущий к возрождению умирающих миров в виде космического облака раскалённого газа и пара.
Попросту говоря, мышление оказывается необходимым опосредующим звеном, благодаря которому только и делается возможным огненное «омоложение» мировой материи,— оказывается той непосредственной «действующей причиной», которая приводит в актуальное действие бесконечные запасы связанного движения, на манер того, как ныне оно, разрушая искусственно небольшое количество ядер радиоактивного вещества, кладёт начало цепной реакции.
В данном случае процесс, по-видимому, будет иметь также форму «цепной», т. е. самовоспроизводящейся по спирали, реакции — реакции, создающей своим собственным ходом условия своего же собственного протекания в расширяющихся в каждое мгновение масштабах. Только в данном случае цепная реакция распространяется не на искусственно накопленные запасы радиоактивного вещества, а на естественно накопленные запасы движения Вселенной, на запасы, связанные состоянием «тепловой смерти» в мировом пространстве.
Попросту говоря, этот акт осуществляется в форме грандиозного космического взрыва, имеющего цепной характер, и материалом которого (взрывчатым веществом) оказывается вся совокупность элементарных структур, рассеянных излучением по всему мировому пространству.
С точки зрения современной физики это вовсе не выглядит невероятным.
Ведь ясно, что чем мельче искусственно разрушаемая структура, тем большие запасы внутренней энергии высвобождаются при её разрушении. Разрушение химической структуры (которое происходит при самом простом сжигании) даёт сравнительно небольшую дозу высвободившейся энергии. Несравнимо больше количество энергии, высвобождаемой при разрушении атомного ядра. Чем «проще» структура, подвергающаяся разрушению, тем больше количество выделяемой при этом энергии, что показывает, что чем мельче и проще материальная структура, тем прочнее её внутренние связи, тем труднее её разрушить, но тем больше энергии получается в том случае, если удаётся сделать реакцию цепной.
Если теоретически прочертить перспективу в будущее развитие техники и науки, то тенденция явная: человек идёт к цепному разрушению всё более простых, а тем самым всё более прочных структур материи, высвобождая при этом всё большее и большее количество связанной в этих структурах энергии. И как бы ни велика была затрата энергии, потребной на то, чтобы разрушить первую частицу, т. е. положить начало цепной реакции, эта затрата не идёт ни в какое сравнение с общим количеством выделяемого при цепной реакции количества движения.
И перспектива теоретически такова: если бы удалось разрушить бесконечно малую структурную единицу материи, то взамен получилось бы пропорционально бесконечное количество высвободившейся при этом энергии — количество, которого достаточно для того, чтобы разрушить и превратить в раскалённые пары бесконечно большую массу остывшей материи.
Так в новом свете подтверждается старая формулировка существа закона сохранения материи и движения, данная Лейбницем: если бы была разрушена мельчайшая пылинка — рухнула бы вся Вселенная. Всю бесконечную Вселенную разрушить этот акт, конечно, не может, но поскольку разрушаемая структура по размеру и по сложности своей организации стремится к исчезающе малому пределу, то и количество высвобождаемой при этом энергии соответственно стремится к бесконечности. Область мировой материи, захватываемая процессом, включаемая в цепь реакции, остаётся поэтому ограниченной какими-то пределами. Каковы эти пределы — сказать сейчас, конечно, невозможно, так же невозможно, как и указать размеры и качественные характеристики той частицы, разрушение которой необходимо для того, чтобы вызвать этот процесс. Но процесс этот вполне объясняет возможность превращения сколь угодно больших конечных масс остывшей материи в раскалённую туманность, способную положить начало новым мирам.
С этой точки зрения гипотеза, по-видимому, выдерживает принципиальную критику.
Мышление, таким образом, и выступает как то самое звено всеобщего круговорота, посредством которого развитие мировой материи замыкается в форму круговорота — в образ змеи, кусающей себя за хвост, как любил выражать образ истинной (в противоположность «дурной») бесконечности Гегель.
Задача, таким образом, решена при соблюдении всех условий. Ни один из принципов материализма не затронут. Некоторые положения диалектики приобрели более конкретную форму выражения. Мышление понято как действительный атрибут материи, как высший продукт всеобщего развития, как высший цвет материи, который с необходимостью расцветает в её лоне и при этом даёт необходимый с точки зрения всеобщего развития плод. Соблюдён и конкретно проведён и закон сохранения и превращения материи и движения. И вместе с этим указан возможный путь, на котором происходит использование излучённой звёздами теплоты для обратного процесса — процесса концентрации материи и движения в плотную и разогретую туманность, в раскалённые вращающиеся массы газа. Но — что не менее важно и интересно с точки зрения проблемы взаимоотношения материи и мышления — гипотеза отводит мышлению, мыслящему духу, такую роль в ходе всеобщего круговорота мироздания, которая гораздо больше соответствует его месту на лестнице развития, чем представление, согласно которому всё развитие духовной и материальной культуры, вся история мыслящего духа ведёт к нулевому результату, к простой гибели, не оставляющей никакого следа.
Гипотеза, исходя из учёта места и роли, которую мыслящий дух необходимо играет в системе всеобщего взаимодействия мировой материи, из учёта объективных и помимо воли и сознания складывающихся в мироздании обстоятельств, проясняет ту самую «высшую» и «конечную» цель существования мыслящего духа в системе мироздания, на которой всегда спекулировали все и всяческие религии. Эта «конечная цель» сама понимается как с необходимостью достигаемое сознание, отражение места мыслящего духа в системе объективных условий, полагаемых развитием мировой материи.
И эта — объективно выведенная — «цель» бесконечно грандиознее и величественнее, чем все те жалкие фантазии, которые выдумали религии и связанные с ними философские системы.
Высшая и конечная цель существования мыслящего духа оказывается космически-грандиозной и патетически-прекрасной. От других гипотез относительно финала существования человечества гипотеза отличается не тем, что устанавливает в качестве этого финала всеобщую гибель — гибель, смерть, уничтожение представляют собой абсолютно необходимый результат в любой гипотезе,— а лишь тем, что эта гибель рисуется ею не как бессмысленный и бесплодный конец, но как акт по существу своему творческий, как прелюдия нового цикла жизни Вселенной.
Такого значения за человеком и такого смысла его гибели не может, по-видимому, признать ни одна другая гипотеза.
Гибель ведь всё равно неизбежна, и её неизбежности не может не признавать никакая гипотеза на этот счёт. И единственное различие между возможными гипотезами может состоять лишь в различных толкованиях объективного смысла и роли акта гибели в лоне всеобщего круговорота мировой материи, места и роли этого акта в системе мирового взаимодействия.
Предлагаемая гипотеза отличается тем преимуществом, что гибель человечества (и мыслящего духа вообще) предстаёт в её свете не бессмысленной, как в любой другой возможной гипотезе, а оправданной как абсолютно необходимый акт с точки зрения всеобщего круговорота мировой материи, развивающейся по своим объективным законам.
Мышление при этом остаётся исторически преходящим эпизодом в развитии мироздания, производным («вторичным») продуктом развития материи, но продуктом абсолютно необходимым — следствием, которое одновременно становится условием существования бесконечной материи.
В отношении материи и мышления появляется действительная диалектика — взаимная обусловленность, внутри которой материя хотя и остаётся первичным и определяющим (первым по природе), тем не менее оказывается обусловленной обратным активным воздействием со стороны мышления.
Мышление оказывается действительным атрибутом, и положение: «Как нет мышления без материи, так нет и материи без мышления»,— приобретает реальный конкретный смысл.
Мышление предстаёт в этом свете как не только самый высший и прекрасный цвет мироздания, но и как цвет небесплодный, как цвет, который своей смертью порождает абсолютно необходимый с точки зрения всеобщего круговорота плод, результат.
Смерть мыслящего духа становится подлинно творческим актом — актом, который превращает обледеневающие пустыни межмировых пространств, погружённые во мрак, во вращающиеся массы раскалённых, светлых, тёплых солнечных миров — систем, которые становятся колыбелями новой жизни, нового расцвета мыслящего духа, бессмертного, как сама материя…
Смерть мыслящего духа становится тем самым его бессмертием. И когда-то вновь — в бесконечно далёком грядущем — новые существа, в которых природа разовьёт мыслящий дух, будут — как и мы ныне — созерцать сверкающие над небом их Земли звёздные миры с гордым сознанием, что эти миры обязаны своим существованием некогда исчезнувшему мыслящему духу, его великой и прекрасной жертве.
В сиянии звёздного неба мыслящее существо будет всегда видеть свидетельство могущества и красоты бессмертного даже в смерти своей мыслящего духа — опредмеченную, чувственно воспринимаемую, а потому не вызывающую никаких сомнений свою собственную власть над предметным миром.
Звёздное небо, как и вся окружающая природа, будет для мыслящего существа зеркалом, в котором отражается его собственная бесконечная природа. Через сияние звёзд мыслящему духу будет говорить — на языке, понятном только ему,— вечно возрождающийся в своих продуктах бессмертный мыслящий дух.
И в созерцании вечной природы человек — как и всякое мыслящее существо — будет испытывать гордость самим собой, космическими масштабами своей собственной вселенско-исторической миссии — местом и ролью мыслящего существа в системе мирового взаимодействия.
В сознании огромности своей роли в системе мироздания человек найдёт и высокое ощущение своего высшего предназначения — высших целей своего существования в мире. Его деятельность наполнится новым пафосом, перед которым померкнет жалкий пафос религий.
Это будет пафос истины, пафос истинного сознания своей объективной роли в системе мироздания.
Ясно, что выполнить свою вселенско-историческую миссию мыслящий дух окажется в состоянии лишь на вершине своего развития, своего могущества — до которой нам, людям ⅩⅩ века, разумеется, не дожить. Пройдут миллионы лет, родятся и сойдут в могилу тысячи поколений, установится на Земле подлинно человеческая система условий деятельности — бесклассовое общество, пышно расцветёт духовная и материальная культура, с помощью которой и на основе которой человечество только и сможет исполнить свой великий жертвенный долг перед природой.
Для нас, для людей, живущих на заре человеческого расцвета, борьба за это будущее остаётся единственно реальной формой служения высшим целям мыслящего духа. И к ныне идущей борьбе, к ныне совершающейся деятельности наша гипотеза не прибавляет ничего и не отнимает от неё ничего, прибавляя лишь гордое — и носящее пока лишь чисто эстетический характер — сознание, что деятельность человека одухотворена не только пафосом «конечных» человеческих целей, но имеет, кроме того, и всемирно-исторический смысл, осуществляет бесконечную цель, обусловленную со стороны всей системы мирового взаимодействия.
И в свете изложенной гипотезы совсем по-новому, с ещё большей пророческой силой звучат гениальные слова «Диалектики природы»:
«…Мы вынуждены либо обратиться к помощи творца, либо сделать тот вывод, что раскалённое сырьё для солнечных систем нашего мирового острова возникло естественным путём, путём превращений движения, которые от природы присущи движущейся материи и условия которых должны, следовательно, быть снова воспроизведены материей, хотя бы спустя миллионы и миллионы лет, более или менее случайным образом, но с необходимостью, внутренне присущей также и случаю».
И — с помощью нашей гипотезы — мы обретаем новое основание для уверенности в том, что:
«Материя во всех своих превращениях остаётся вечно одной и той же, что ни один из её атрибутов никогда не может быть утрачен и что поэтому с той же самой железной необходимостью, с какой она когда-нибудь истребит на Земле свой высший цвет — мыслящий дух, она должна будет его снова породить где-нибудь в другом месте и в другое время».
И потому, добавим мы, что мыслящий дух — не пустоцвет, который расцветает на короткое мгновение лишь затем, чтобы тотчас же бесплодно увянуть, а есть столь же условие существования материи, сколь и необходимое его следствие, т. е. внутренне-полагаемое, бесконечное и всеобщее условие бытия мировой материи, действительный атрибут материи как бесконечной субстанции мироздания.
Примечания