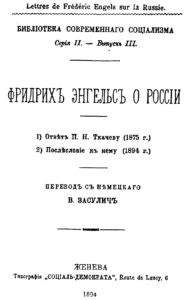Присутствовали: т.т. Б. Н. Пономарёв, Дэн Сяопин. Беседа записана: Н. Федоренко и А. Филевым.
Н. С. Хрущёв передаёт приветы и пожелания членов Президиума ЦК КПСС.
Мао Цзэдун благодарит. Говорит, что при наличии сотрудничества между руководством двух партий легче решать мировые проблемы.
Н. С. Хрущёв выражает согласие.
Мао Цзэдун. Не загадывая на более долгий срок, можно сказать, что наше сотрудничество обеспечено на 10 000 лет.
Н. С. Хрущёв. В таком случае можно встретиться ещё раз через 9 999 лет, чтобы договориться о сотрудничестве на следующие 10 000 лет.
Мао Цзэдун. Однако между нами есть некоторое различие во мнениях. Такое различие по отдельным вопросам было, есть и будет. Если сравнить это с десятью пальцами, то наше сотрудничество — девять пальцев, а различие — один.
Н. С. Хрущёв. Да, может быть разное понимание.
Мао Цзэдун. Эти вопросы легко разрешимы, между нами всегда будет сотрудничество, поэтому можно подписать соглашение на 10 000 лет.
Предлагает перейти к обсуждению интересующих вопросов.
Н. С. Хрущёв. Мы имели информацию Юдина о беседах с Вами. Судя по ней, много накручено, поэтому хотелось бы рассказать, чтобы всё стало ясно.
Мао Цзэдун. Хорошо.
Н. С. Хрущёв. Не буду останавливаться на вопросах, по которым у нас, как это видно из сообщений о беседе с нашим послом, единая точка зрения. Это вопросы международного положения, оценка событий на Ближнем и Среднем Востоке, югославский вопрос. Мы также поддерживаем ваше заявление о том, что у нас нет никаких вопросов, которые могли бы порождать разные точки зрения. Мы радуемся успехам вашей партии и КНР. Думаю, что и вы радуетесь нашим.
Мао Цзэдун. Да.
Н. С. Хрущёв. Хотел бы затронуть вопрос, который нас прямо-таки огорошил. Это о строительстве военно-морского флота. Вы говорили, что не спали из-за этого ночь. Я тоже не спал ночь, когда получил информацию.
Мао Цзэдун. Я был поражён и поэтому не мог спать.
Н. С. Хрущёв. Никогда и ни у кого, прежде всего это касается меня, поскольку я главным образом беседовал с Юдиным, а затем уже ему давались указания на Президиуме ЦК, не было такого понимания вопроса, которое сложилось у ваших товарищей. Не было даже мысли о совместном флоте. Вы знаете мою точку зрения. Я был при жизни Сталина против смешанных обществ. Против его старческой глупости о концессии на фабрику ананасных консервов. Подчёркиваю, старческой глупости, потому что Сталин не был настолько глуп, чтобы не понимать этого. Здесь сказался склероз.
Мао Цзэдун. Я тоже приводил эти примеры и говорил, что Хрущёв ликвидировал это наследие.
Н. С. Хрущёв. Я один из членов Политбюро, который прямо сказал Сталину, что не надо посылать Мао Цзэдуну такую телеграмму о концессии, т. к. это принципиально неправильно. Были и другие члены Политбюро, с которыми я сейчас разошёлся, но которые также не поддерживали это предложение Сталина. После смерти Сталина мы сразу же поставили вопрос о ликвидации смешанных обществ и сейчас их нигде не имеем.
Мао Цзэдун. Были ещё две полуколонии — Синьцзян и Маньчжурия.
Н. С. Хрущёв. Ненормальное положение там было ликвидировано.
Мао Цзэдун. По соглашению там не разрешалось даже проживать гражданам третьих стран. Вы эти полуколонии также ликвидировали.
Н. С. Хрущёв. Да, ибо это противоречило основным коммунистическим принципам.
Мао Цзэдун. Целиком согласен.
Н. С. Хрущёв. Даже в Финляндии, капиталистической стране, мы ликвидировали свою военную базу.
Мао Цзэдун. И в Порт-Артуре базу ликвидировали именно Вы.
Н. С. Хрущёв. Иначе и не могло быть. Это тем более правильно в отношении социалистической страны. Даже в капиталистической стране это ничего, кроме вреда, не даёт. Мы ликвидировали совместную собственность в Австрии, продали австрийскому правительству. Это принесло свои плоды. В противном случае оставался бы источник конфликтов с австрийским правительством. У нас были хорошие тёплые встречи, когда мы недавно принимали австрийскую делегацию. Раньше бы таких встреч не могло быть. То, что мы имеем хорошие отношения с нейтральной капиталистической страной, выгодно для всех социалистических стран.
Наша линия чиста, ясна. Мы оказываем помощь бывшим колониям, в наших договорах нет ни одного пункта, омрачающего наши отношения или содержащего посягательства на независимость той страны, которой оказывается помощь. В этом сила социалистического лагеря. Когда мы оказываем помощь бывшим колониям и не ставим политических условий, то тем самым завоёвываем сердца народов этих стран. Такая помощь оказывается Сирии, Египту, Индии, Афганистану, другим странам. Недавно дали согласие заключить договор с Аргентиной. Это окажет сильное воздействие на умы в Латинской Америке и особенно в Аргентине. Мы согласились дать оборудование для нефтедобывающей промышленности на 100 миллионов долларов. Это делается против США, чтобы Южная Америка не чувствовала полную зависимость от США, видела, что есть выход.
Мао Цзэдун. Правильно.
Н. С. Хрущёв. Как Вы могли подумать, что мы можем поступить в отношении вас так, как говорилось на беседах с т. Юдиным? (В шутку). Это я уже нападаю.
Мао Цзэдун. Что такое совместный флот? Разъясните, пожалуйста.
Н. С. Хрущёв. Мне неприятно об этом говорить, потому что здесь нет посла. Я ему передавал поручение, говорил с ним отдельно, а затем на Президиуме. Когда я беседовал с ним, у меня было опасение, что он может меня неправильно понять. Спрашиваю его: «Вам ясен вопрос?» Говорит: «Ясен». Но вижу, что главного из того, что я говорил, он Вам не сказал.
Мао Цзэдун. Вот как!
Н. С. Хрущёв. Понимаю так, что эти вопросы от него далеки, как Луна от Земли. Это специальный вопрос, к которому он не имеет отношения.
Вопрос о строительстве флота настолько сложен, что окончательного решения мы ещё по нему не приняли. Мы им занимаемся с тех пор, как умер Сталин. Мы освободили от военной службы адмирала Кузнецова и послали его на пенсию, потому что, если бы приняли его десятилетнюю программу строительства флота, то не имели бы ни флота, ни денег. Вот почему, когда мы получили письмо т. Чжоу Эньлая с просьбой о консультации и помощи в строительстве флота, для нас было трудно дать ответ.
Мао Цзэдун интересуется стоимостью этой программы.
Н. С. Хрущёв даёт ответ.
Нам предлагали строить крейсера, авианосцы и другие крупные суда. Один крейсер стоит очень дорого, но ещё во много дороже строительство портов и мест стоянок флота. Мы обсудили эту программу и отвергли её. Но самое главное в том, что мы подвергли критике самою доктрину военно-морского флота ввиду изменившегося положения в военной технике.
В 1956 г. в Севастополе было созвано совещание моряков, на котором присутствовали Ворошилов, Микоян, Маленков, Жуков и я. Моряки доложили, как они думают использовать флот в войне. После такого доклада их надо было метлой гнать не только из флота, но и из армии.
Вы помните, когда мы возвращались от Вас в 1954 году, то поехали через Порт-Артур во Владивосток, затем Комсомольск. Потом совершили небольшой поход на крейсере, во время которого было устроено маленькое учение. С нами был адмирал Кузнецов. По ходу учения подводные лодки и торпедные катера атаковали крейсер. Ни одна торпеда с катеров в крейсер не попала. С подводных лодок попала лишь одна. Мы подумали, что, если так флот готов к войне, то наша страна не может надеяться на свои военно-морские силы. Это было началом нашего критического отношения. После этого Кузнецову было поручено сделать доклад и подготовить предложения. На Президиуме ЦК его предложения не были приняты. Он возмутился и повёл себя нахально, заявив: «Когда ЦК займёт правильную позицию по отношению к военно-морскому флоту
». Тогда мы и построили правильные отношения — выгнали Кузнецова с флота.
При Сталине мы настроили много крейсеров. Во время пребывания в Лондоне я даже предлагал Идену купить крейсер. Сейчас люди ломают себе мозги, как использовать флот в войне. Вспомните, какие крупные морские бои были во время Второй мировой войны? Никаких. Флот или бездействовал или погиб. Самыми сильными морскими державами были США и Япония. Япония нанесла сильное поражение американскому флоту своей авиацией. Американцы затем разбили японский флот также с помощью авиации.
Вопрос заключается в том, куда вкладывать деньги.
Когда мы получили Ваше письмо, то задумались — послать военных, но они не имеют единой точки зрения о строительстве флота. Мы уже трижды обсуждали этот вопрос и последний раз решили дать им месячный срок для подготовки предложений. Какой в современных условиях нужен флот? Мы прекратили строительство крейсеров. Выбросили в переплавку уже готовые артиллерийские башни, а ведь это золото. У нас на стапелях стоят несколько недостроенных крейсеров. Мнения в нашем Генштабе разбились на две части: одни говорят — выбросить, другие говорят — достроить, а потом больше не строить. По возвращении придётся решать этот вопрос. Военные моряки разделились пополам. Моя точка зрения была неустойчивой: прекратить строительство — жалко затрат, достроить — ещё затраты. Для войны они не нужны. Перед своим отъездом в отпуск Малиновский просил рассмотреть этот вопрос. На Военном совете обороны я высказался против достройки крейсеров, но нерешительно. Малиновский упрашивал, и я решил поддержать его. Устроили заседание Президиума ЦК, во время которого многие видные маршалы и генералы выступили категорически против. Решили отложить до возвращения Малиновского из отпуска и ещё раз обсудить этот вопрос. Думаю, что на этот раз решим выбросить их в вагранку.
Какую консультацию при таком положении могли дать вам наши военные? Поэтому мы сказали себе, надо собраться вместе с ответственными китайскими товарищами, обсудить и решить этот вопрос. Только на военных мы не могли положиться, т. к. они сами не имеют определённой точки зрения. Нам хотелось совместно с вами обсудить, какое направление взять в строительстве военно-морского флота. Я, например, сейчас не могу сказать, какую точку зрения по этому вопросу имеет наш новый начальник штаба военно-морских сил. Если мы пошлём его, то неизвестно ещё, чью точку зрения он будет излагать — нашу или свою. Поэтому мы хотели обсудить это вместе с товарищами Чжоу Эньлаем и Пэн Дэхуаем — военными и гражданскими работниками. Навязывать свою точку зрения мы не могли и не собирались; вы могли и не согласиться с ними, какой флот строить. Мы ещё в стадии поисков.
Кому нужны сейчас крейсера с их ограниченной огневой силой при наличии ракетного оружия. Я говорил в Лондоне Идену, что их крейсера — это плавающие стальные гробы.
Вопрос о строительстве флота очень сложен. Военные задают вопрос, почему в таком случае американцы строят флот. Я считаю, что американцы, с их точки зрения, делают правильно, потому что США находятся в Америке, а воевать они собираются в Европе или Азии. Им флот нужен для транспортировки и прикрытия. В противном случае им нужно отказаться от своей политики и объявить доктрину Монро.
Мао Цзэдун, обращаясь к Дэн Сяопину, просит дать ему записи бесед с Юдиным. Дэн Сяопин передаёт Мао Цзэдуну записи беседы.
Н. С. Хрущёв. В таком положении сейчас находится дело. Поэтому я с Юдиным так и говорил, просил его рассказать Вам об этой обстановке. Спрашивал его, всё ли ему ясно. Он ответил утвердительно. Но он никогда не занимался флотом, поэтому он мог неточно передать суть дела. ЦК КПСС никогда не имел и не имеет в виду создание совместного флота.
Мао Цзэдун (раздражённо). Я Вас не слышал, Вы были в Москве. Со мной же разговаривал один русский — Юдин. Поэтому я и спрашиваю, какие у Вас основания для «наступления
» на меня, о котором Вы сказали?
Н. С. Хрущёв. Я не в претензии.
Мао Цзэдун (раздражённо). На кого же надо нападать — на Мао Цзэдуна или на Юдина?
Н. С. Хрущёв. Я Вас не утомляю таким длинным объяснением?
Мао Цзэдун. Нет. Вы ещё не сказали главного.
Н. С. Хрущёв. По изложенным причинам мы и хотели, чтобы приехали ваши товарищи для совместного обсуждения вопроса о том, какой нужен флот, его техническом и боевом применении. Я действительно говорил Юдину в таком плане, что тов. Мао Цзэдун высказывался за координацию наших усилий на случай войны. Вы об этом говорили в 1954 г. во время нашего приезда и во время Вашего пребывания в Москве в 1957 г. Пока, к сожалению, по этому вопросу ничего не сделано. Поэтому я сказал Юдину, чтобы он осветил обстановку. Нам ясно, что нужно строить подводный флот и торпедные катера, вооружённые не морскими, а воздушными ракетами, потому что главная задача подводного флота будет не борьба с надводным флотом противника, а разрушение его портов и промышленных центров. Поэтому я говорил Юдину в таком плане. Хорошо бы наш флот, расположенный в Чёрном и Балтийском морях, списать. Там он не нужен, и уже если строить в этом районе, то только небольшие подводные лодки. В таком случае, где мы можем строить? В районе Мурманска, но отсюда нелегко прорываться к Америке. В Англии и Исландии — они принимают меры для перехвата. Во Владивостоке лучше, но там тоже мы прижаты Сахалином и Курильскими островами, которые нас защищают, но и дают возможность вражеским подводным лодкам следить за выходом наших. Я говорил, что у Китая обширное морское побережье, открытые моря, откуда легко вести подводную войну с Америкой. Поэтому было бы хорошо обсудить с Китаем вопрос об использовании этих возможностей. Более конкретно — видимо, на какой-то реке (Хуанхэ или другой) вам нужно иметь завод подводных лодок, способный производить их в довольно большом количестве. Мы считали нужным по этим вопросам поговорить, но о том, чтобы строить совместный завод или совместный флот, и не думали, да это и не нужно.
Мао Цзэдун. Юдин не раз говорил о создании совместного флота и сказал, что Чёрное и Балтийское моря не имеют выхода, из Мурманска действовать флотом не очень легко, путь из Владивостока преграждён Японией и т. д. Он же указывал, что китайская морская линия имеет большую протяжённость. По словам Юдина, в СССР производятся атомные подводные лодки. Вся речь его сводилась к созданию совместного флота.
Н. С. Хрущёв. Мы строим свой флот и можем применять его. Это — грозное оружие. Верно, что его трудно будет использовать, но и противнику нелегко. Война вообще трудное дело.
Мао Цзэдун. Я спрашивал Юдина: чьей будет собственностью флот — китайской, СССР или общей. Я подчёркивал также, что в современных условиях для Китая флот нужен как собственность Китая и ни о какой другой собственности не может быть речи. В случае же войны мы всё предоставим Советскому Союзу. Однако Юдин настаивал на том, что флот должен быть совместным. Третий раз Юдина принял тов. Лю Шаоци и других наших товарищей. На этой беседе Юдин повторил свои прежние заявления. Наши товарищи высказались против совместного флота. Он изменил формулировку и вместо «совместного флота
» стал говорить о «совместном строительстве
». Наши товарищи и это подвергли критике, сказав, что мы понимаем это как совместное владение флотом. Тогда Юдин стал говорить о «совместных усилиях
» по созданию флота.
Н. С. Хрущёв. Здесь и моя вина. Не надо было поручать Юдину, который не знает вопроса, информировать Вас. Но нам не хотелось писать по этому вопросу письмо. Хотели сообщить Вам устно.
Мао Цзэдун. Мы поняли его так, что если хотим получить помощь, то надо строить совместный флот, направленный главным образом против США. Мы поняли так, что Хрущёв хочет вместе с китайскими товарищами решить вопрос о совместном создании военно-морского флота, имея в виду привлечение и Вьетнама.
Н. С. Хрущёв. Я говорил, когда будет война, то нам нужно будет широко использовать побережье, включая Вьетнам.
Мао Цзэдун. Я же говорил, что в случае войны Советский Союз может использовать любую часть Китая, русские моряки могут действовать в любом порту Китая.
Н. С. Хрущёв. Я бы не сказал «русские моряки». Нужны совместные усилия в случае войны, может быть, будут действовать китайские моряки, может быть нужны объединённые усилия. Однако вопроса о какой-то территории или нашей базе не было.
Мао Цзэдун. Например, если бы в составе флота было сто кораблей, какая бы часть приходилась вам и нам?
Н. С. Хрущёв. Флот не может быть во владении двух государств. Флотом надо командовать. А когда командуют двое, нельзя воевать.
Мао Цзэдун. Правильно.
Н. С. Хрущёв. Вы можете не согласиться с нами. Мы считаем так, а Вы можете сказать: мы против. Если бы Вы нам предложили это, мы тоже были бы против.
Мао Цзэдун. Если так, то все чёрные тучи рассеялись.
Н. С. Хрущёв. Туч и не было.
Мао Цзэдун. Однако мы не спали ночь. Выходит, я не спал напрасно.
Н. С. Хрущёв. Как товарищ Мао Цзэдун мог допустить, что мы можем навязывать совершенно непартийные принципы?
Мао Цзэдун. Я даже говорил своим товарищам, что мне непонятно это предложение с точки зрения принципиальной, что возможно это недоразумение. Вы ликвидировали то неправильное, что было сделано Сталиным. Я лично и некоторые другие товарищи сомневались, не является ли это предложение предложением штаба военно-морских сил СССР. Ваш советник (моряк) четыре раза советовал нам послать телеграмму о помощи в строительстве флота, уверяя, что этот вопрос будет решён положительно.
Н. С. Хрущёв. Таких советников надо выгнать.
Мао Цзэдун. Советники не говорили о совместном флоте.
Н. С. Хрущёв. Всё равно не имеют права. Их дело давать совет, когда об этом спросят.
Мао Цзэдун. Советники высказали предложение запросить помощи у СССР. После этого Чжоу Эньлай послал такой запрос, имея в виду флот с ракетными установками.
Н. С. Хрущёв. Юдину не было поручения делать предложение. Ему было поручено только передать просьбу об обсуждении совместно вопроса о строительстве подводного флота. Как мы могли поручить Юдину вести переговоры о строительстве подводного флота? Юдина мы знаем и доверяем ему по партийным вопросам, но он не подходит для переговоров об атомном подводном флоте.
Мао Цзэдун. Им было сказано, что нужно послать представителей для переговоров о совместном создании военно-морского флота. Я просил передать, что такие переговоры мы не можем вести.
Н. С. Хрущёв. Он стремился правильно изложить вопрос по существу, но видимо сам неправильно понял наше задание, неправильно его толковал и допустил возможность поставить нас в неправильное отношение друг с другом.
Мао Цзэдун. Но Юдин говорил именно так. При этом был и Антонов. Чьё здесь самолюбие задето?
Н. С. Хрущёв. Вижу, что Ваше самолюбие очень затронуто.
Мао Цзэдун. Поэтому и не спал.
Н. С. Хрущёв. Наше самолюбие тоже задето. Как Вы могли так неправильно воспринять нашу политику?
Мао Цзэдун. Это Ваш представитель так излагал. А я сказал ему, что не соглашусь с таким предложением, не пойду на это и заявил: «Воюйте на море и в воздухе, а мы будем на суше партизанить
».
Дэн Сяопин. Вопрос возник из анализа морского побережья Китая и Советского Союза. Юдин говорил, что у Китая хорошее побережье, а у Советского Союза плохое, поэтому нужен совместный флот. Тогда Мао Цзэдун сказал, что это — кооператив?
Мао Цзэдун. Кооператив состоит из двух частей.
Н. С. Хрущёв. Мне совершенно ясно. Я сказал своё мнение. Считал, что наши китайские друзья лучшего о нас мнения. Поэтому счёл нужным объясниться. Мы не посягали на суверенитет Китая. У нас в партии один подход. Думаю, что и у вас такой же принцип.
Мао Цзэдун. В таком случае я спокоен.
По другому варианту выходило — совместный флот. Если флот не будет совместным, то не будет оказана и помощь.
Н. С. Хрущёв. Юдин так и говорил?
Мао Цзэдун. Нет, это я передаю смысл его слов.
Н. С. Хрущёв. Это Ваше умозаключение!
Мао Цзэдун. А третий вариант состоит в том, что мы вообще снимаем просьбу, потому что второй вариант нам не подходит. Даже если в течение десяти тысяч лет у нас не будет атомного подводного флота, то мы и тогда на совместный флот не пойдём, обойдёмся.
Н. С. Хрущёв. Об атомном подводном флоте в Вашем письме не говорилось.
Мао Цзэдун. Да, не говорилось. Мы ставили вопрос о строительстве флота с ракетным оружием. Об атомном подводном флоте говорил Юдин.
Н. С. Хрущёв. Поэтому я и говорю: какой флот строить, надо обсудить. Кто Вам даст совет — Горшков? Не уверен, что он советует нам правильно. Даст он Вам совет, Вы будете считать, что это мы советуем. Потом Вы разберётесь, скажете — неправильный совет дали.
Мао Цзэдун. Для нас не возникает вопроса о строительстве крупного флота. Мы говорили только о торпедных катерах и подводных лодках с ракетными установками. Это изложено в нашем письме.
Имеется второй вопрос — о создании радиолокационной станции в Китае.
Н. С. Хрущёв. Хотелось бы закончить вопрос о военно-морском флоте, а потом о станции. Считаю, что эта часть поручения Юдиным изложена неправильно. Видимо, он не точно выразился и дал повод неправильно его понимать.
Мао Цзэдун. Но при этом присутствовало семь-восемь человек. Я сказал тогда, что это кооператив. Все ахнули, когда услышали это предложение. Поэтому я и не спал целую ночь.
Н. С. Хрущёв. А я вторую. Согласен взять на себя часть вины. Я — первоисточник. Я объяснял Юдину, он неправильно меня понял и неправильно передал. Юдин — честный человек, он с большим уважением относится к Китаю и к Вам лично. Мы Юдину верим, считаем, что сознательно он не мог исказить. Это честный член ЦК и всё делает для укрепления дружбы наших стран. Всё это плод недоразумений в результате неправильного понимания им поручения. Я говорю, что у меня у самого было сомнение, я раза два-три спрашивал, всё ли ясно, потому что давал ему поручение по вопросу, к которому он не имеет никакого отношения. А к Вам я в претензии. Если видите, что дело выходит за рамки коммунистических отношений, то надо было хорошо выспаться, сказать себе, что это недоразумение и попытаться ещё раз выяснить. (В шутку). Видите, я на Вас наседаю.
Мао Цзэдун. Я говорил, может быть, это недоразумение, надеюсь, что это недоразумение.
Н. С. Хрущёв. Надо было ложиться спать.
Мао Цзэдун. Несколько раз говорилось исключительно о совместном флоте, поэтому я и перешёл тогда в контратаку. Теперь Вы контратакуете меня. Но я ещё перейду в атаку на Вас.
Н. С. Хрущёв. В физике есть закон: действие равно противодействию.
Мао Цзэдун (раздражённо). У меня были основания. Я говорил тогда, что мы можем отдать всё китайское побережье, но не согласны на совместный флот.
Н. С. Хрущёв. У нас своих берегов много, дай бог со своими справиться.
Мао Цзэдун. Это четвёртый вариант — отдать Вам все берега. Есть ещё пятый — я привык партизанить.
Н. С. Хрущёв. Сейчас не то время.
Мао Цзэдун. Но у нас не было надежды, имея в виду, что если бы мы отдали всё побережье, то у нас осталась бы только суша.
Н. С. Хрущёв (в шутку). Что ж, давайте обменяемся берегами, но лучше уж пусть каждый останется на своих, к которым мы привыкли.
Мао Цзэдун. Согласен отдать все берега до Вьетнама.
Н. С. Хрущёв. Надо тогда и Хо Ши Мина пригласить, а то узнает, будет говорить, что тут Хрущёв и Мао Цзэдун против него заговор устроили.
Мао Цзэдун. По пятому варианту мы отдали бы Вам Порт-Артур, у нас ещё осталось бы несколько портов.
Н. С. Хрущёв. Вы что, считаете нас красными империалистами?
Мао Цзэдун. Дело не в том, красные или белые империалисты. Был один человек по имени Сталин, который взял Порт-Артур и превратил Синьцзян и Маньчжурию в полуколонии, да ещё создал четыре смешанные компании. Это всё его хорошие дела.
Н. С. Хрущёв. Вы знаете мою точку зрения. Однако по вопросу о Порт-Артуре, я думаю, Сталин решил тогда правильно. Тогда в Китае был Чан Кайши, и для вас было выгодно, что в Порт-Артуре и Маньчжурии находилась Советская Армия. Это сыграло определённую положительную роль. Но с этим надо было покончить, как только победил народный Китай. По-моему, когда в 1954 г. мы поднимали вопрос о выводе войск из Порт-Артура, Вы высказали сомнение в целесообразности этого, считая, что присутствие советских войск будет сдерживать агрессивные устремления США. Мы просили Вас изучить этот вопрос. Вы обещали подумать. Подумали, потом согласились с нами.
Мао Цзэдун. Да.
Н. С. Хрущёв. Вы тогда говорили, что не коммунисты поднимают вопрос в вашем парламенте о том, выгодно ли это для Китая. Вы говорили об этом?
Мао Цзэдун. Да. Но это одна сторона дела. Сталин не только совершил ошибки в этом. Он ещё создал две полуколонии.
Н. С. Хрущёв. Вы защищали Сталина. Меня же критиковали за то, что я критиковал Сталина. А теперь — наоборот.
Мао Цзэдун. Вы критиковали за другое.
Н. С. Хрущев. Я говорил на съезде и об этом.
Мао Цзэдун. Я всегда говорил, и сейчас и тогда в Москве, что критика ошибок Сталина правильна. Мы не согласны только с отсутствием чёткой границы критики. Мы считаем, что у Сталина из десяти пальцев были три гнилых.
Н. С. Хрущёв. Думаю, больше.
Мао Цзэдун. Неправильно. В его жизни основное — заслуги.
Н. С. Хрущёв. Да. Мы говорим о достижениях Сталина, и мы тоже в этих достижениях.
Мао Цзэдун. Справедливо.
Н. С. Хрущёв. Сталин был и остаётся Сталиным. А мы критиковали накипь, коросту, которая образовалась особенно к старости. Но другое дело, когда его критикует Тито. Через двадцать лет школьники будут искать в словарях, кто такой Тито, а имя Сталина будут знать все. В словаре же будет сказано, что Тито — это раскольник социалистического лагеря, который стремился его подорвать, а о Сталине будет сказано — боец, дрался с врагами рабочего класса, но совершил большие ошибки.
Мао Цзэдун. Главные ошибки Сталина в отношении Китая не в вопросе о полуколониях.
Н. С. Хрущёв. Знаю. Он неправильно оценивал революционные возможности КПК, писал любезные письма Чан Кайши, поддерживал Ван Мина.
Мао Цзэдун. Ещё более важное в другом. Его первая главная ошибка та, из-за которой одно время у Китайской компартии оставалась 1/10 той территории, что было. Вторая его ошибка в том, что когда в Китае созрела революция, он нам не советовал подниматься на революцию и говорил, что если начнёте воевать с Чан Кайши, то это может грозить гибелью всей нации.
Н. С. Хрущёв. Неправильно. Не может погибнуть нация.
Мао Цзэдун. Но в телеграмме Сталина так было сказано. Поэтому я считаю, что отношения между партиями были неправильными. Сталин после победы нашей революции сомневался в её характере. Думал, что Китай — это вторая Югославия.
Н. С. Хрущёв. Да, он считал это возможным.
Мао Цзэдун. Когда я приезжал в Москву, он не хотел заключать с нами договор о дружбе и не хотел ликвидировать прежний договор с Гоминданом. Помню, Федоренко и Ковалёв передавали его совет поездить по стране, посмотреть. Но я им сказал, что у меня только три задачи: есть, спать, испражняться. Я не затем ехал в Москву, чтобы только поздравить Сталина с днём рождения. Поэтому я и сказал, что если не хотите заключать договор о дружбе, тогда не надо. Буду выполнять свои три задачи. В прошлом году, когда мы были в Москве, в беседе, когда присутствовал ещё Булганин, нам говорили, что Сталин нас подслушивал.
Н. С. Хрущёв. Да, это я говорил. Он и нас подслушивал, сам себя подслушивал. Однажды, когда вместе с ним отдыхал, он признался, что сам себе не верит. Пропащий я, говорит, человек. Сам себе не верю.
Мао Цзэдун. Какой строить военно-морской флот, для нас такого вопроса не существует. Строить флот вроде планов адмирала Кузнецова мы не будем.
Н. С. Хрущёв. Мы сами о флоте ещё не решили.
Мао Цзэдун. Мы хотели только получить помощь в строительстве подводного флота, торпедных катеров и малых надводных кораблей.
Н. С. Хрущёв. Я тоже так считаю. Надо иметь мощный подводный флот, вооружённый ракетами, и торпедные катера, также вооружённые ракетами, а не торпедами.
Мао Цзэдун. Об этом именно мы и просили в своём письме.
Н. С. Хрущёв. Мы считаем, нужны эсминцы, вооружённые ракетами. Считаем, что нужно строить гражданский флот с учётом возможностей использования в военных целях. Строим несколько ракетоносцев. Считаем, что нужно иметь сторожевые суда, вооружённые ракетами, тральщики. Самое главное — авиацию ракетоносцев. Думаю, что Вам в первую очередь нужно именно это. С воздуха можно стрелять дальше. В первую очередь будет нужна береговая оборона. Артиллерия в Порт-Артуре не имеет смысла. Её возможности резко ограничены. Нужны береговые ракетные установки и ракетоносцы или подвижная береговая оборона. Это наше направление в строительстве флота.
Мао Цзэдун. Правильное направление.
Н. С. Хрущёв. Я бы считал, что ракетоносцы нужны в первую очередь. Подводный флот стоит дороже. С помощью ракетоносцев можно противника держать на очень почтительном расстоянии от своих берегов.
Мао Цзэдун. Совершенно правильно. Ещё в Москве говорили об этом.
Н. С. Хрущёв. Самолёты активнее. Мы готовы дать Китаю, что имеем. Ту‑16 утратили своё значение, как бомбардировщики, но как ракетоносцы на морских подступах они хороши. Вообще бомбардировочная авиация переживает кризис. У военных в головах неясность. И истребителям есть замена — ракеты.
Мао Цзэдун интересуется ракетным оружием СССР, Америки, Англии, его боевыми возможностями и видами.
Н. С. Хрущёв даёт ответы на интересующие Мао Цзэдуна вопросы.
Мао Цзэдун говорит, что хорошо бы избежать войны.
Н. С. Хрущёв. Поэтому и держим противника в страхе своими ракетами. Туркам писали, что три-четыре ракеты и Турции не будет. Для того, чтобы стереть с земли Англию, достаточно десяти ракет. В Англии спорят: одни говорят — для того, чтобы уничтожить Англию, нужно девять ракет; другие говорят — шесть-семь. То, что Англия будет уничтожена, в случае атомной войны, они не сомневаются. Спорят лишь о том, сколько для этого нужно ракет. Когда мы написали Идену и Ги Молле письма во время суэцких событий, то они сразу прекратили агрессию. Сейчас, когда мы имеем континентальную ракету, мы держим за горло и Америку. Они думали, что Америка недосягаема. Но это не так. Следовательно, нам нужно использовать эти средства, чтобы не допустить этой войны. Сейчас надо спасти Ирак.
Мао Цзэдун. По-моему, США и Англия отказались от нападения на Ирак.
Н. С. Хрущёв. Думаю, что это верно на 75 %.
Мао Цзэдун. На 90 процентов.
Н. С. Хрущёв. Это уже по-китайски. Здесь у нас «расхождения».
Мао Цзэдун. Они боятся большой войны.
Н. С. Хрущёв. Да, очень боятся. Особенно боятся в Турции, Иране, Пакистане. Революция в Ираке подогревает эти народы, и они могут повторить иракские события.
Мао Цзэдун. О международном положении поговорим завтра. Считаю, что по морским делам вопрос решён.
Н. С. Хрущёв. Да, без боя и без поражения для обеих сторон.
Мао Цзэдун. Совместного флота не будет?
Н. С. Хрущёв. Да, мы и не ставили вовсе этот вопрос.
Мао Цзэдун. Но ведь три советских товарища говорили о совместном флоте.
Н. С. Хрущёв. Сейчас здесь уже четыре советских товарища. И мы говорим, что не будет совместного флота.
Мао Цзэдун. Не будем возвращаться к этому вопросу.
Н. С. Хрущёв. Вопроса не существует. Это недоразумение.
Мао Цзэдун. Согласен. Запишем — снять вопрос.
Н. С. Хрущёв. Согласен. Давайте запишем: вопроса не было, нет и не будет. Это плод недоразумения, неправильного изложения этого вопроса Юдиным. Считаю, что всё исчерпано.
Мао Цзэдун. Теперь я спокоен.
Н. С. Хрущёв. Я тоже. Будем спать спокойно.
Теперь хотел бы сказать о радиолокационной станции. Решения ЦК по этому вопросу не было. Наши военные товарищи говорят, что надо бы иметь радиолокационную станцию, чтобы, когда это потребуется, можно было командовать советскими подводными лодками в Тихом океане. Считаю эти соображения правильными. Думал, что по этому вопросу можно было бы войти и в контакт с китайскими товарищами, чтобы создать такую станцию. Лучше всего, если бы китайские товарищи согласились на то, чтобы мы участвовали в строительстве станции путём кредита или каким-либо другим образом. Станция необходима. Она нужна и нам, и вам, когда у вас будет подводный флот. Вопрос об эксплуатации. Думаю, что двум распоряжаться на станции нельзя. Поэтому мы могли бы договориться на равных началах, чтобы мы могли иметь через эту станцию связь со своим подводным флотом. О собственности нет никакой речи. Она должна быть китайской. Хотелось бы достичь договорённости об использовании на равных условиях. Вы могли бы использовать наши станции во Владивостоке, на Курилах, Северных берегах. Если с вашей стороны нет возражений, то думаю, что нашим военным следовало бы подумать над этим вопросом. Если КНР это не устраивает, то мы настаивать не будем.
Мао Цзэдун. Можно создать такую станцию. Она будет собственностью Китая, построенной на капиталовложения китайского правительства, а использовать можно совместно.
Н. С. Хрущёв. Не совместно, а только частично. Для нас она нужна будет на случай войны и для тренировки в мирное время.
Мао Цзэдун. Тогда надо изменить формулировку в письме Малиновского.
Н. С. Хрущёв. Не видел письма. В ЦК оно не обсуждалось.
Мао Цзэдун. Тоже кооператив. Китайская доля — 30 процентов, а советская — 70. Мы дали ответ Малиновскому в таком духе, как я высказался.
Н. С. Хрущёв. Переписки по этому вопросу не знаю. Видимо, это шло в результате контакта наших военных, и неудачного контакта.
Мао Цзэдун. Второе, июльское письмо Малиновского содержало проект договора по этому вопросу. Если по первому письму доля Китая определялась 30 процентов, то по второму — всё целиком Советскому Союзу.
Н. С. Хрущёв. Подозреваю добрые намерения наших военных. Нам такая станция нужна. Стоит она дорого. Вот они и хотели помочь. При этом игнорировали политическую, юридическую сторону вопроса.
Мао Цзэдун. Мы дали ответ от имени Пэн Дэхуая, в котором сказали, что будем строить, а СССР может использовать.
Н. С. Хрущёв. Мне военные говорили, что вроде достигли полной договорённости с китайскими товарищами.
Мао Цзэдун. Вот, смотрите, вся переписка.
Н. С. Хрущёв. Не видел. Если бы она шла через ЦК, то возможно, что и мы допустили бы такую глупость и предложили бы построить её на наши средства, но в ЦК мы этот вопрос не обсуждали. Но если Вы не желаете, чтобы мы платили, не надо.
Мао Цзэдун. Мы же представляем социалистические государства. Станцию мы построим сами, а использовать нужно совместно. Согласны?
Н. С. Хрущёв. Сейчас станция вам не нужна. Стоит она много миллионов. Не отказывайтесь от денег. Дружба дружбой, а служба службой. В условиях социализма мы должны нести тяготы вместе. Мы можем пойти на то, чтобы дать кредит на строительство. Часть его вы можете оплатить, а часть нет, поскольку станция нужна и вам.
Мао Цзэдун. Можно будет построить без всякого кредита.
Н. С. Хрущёв. Это было бы неправильно. Она вам не нужна сейчас.
Мао Цзэдун. Будет нужна.
Н. С. Хрущёв. Но нам она нужна прежде всего.
Дэн Сяопин. Мы уже дали ответ о том, что будем строить сами, а использовать совместно.
Н. С. Хрущёв. Видимо, поэтому наши военные и сказали мне, что китайцы согласны, а тонкости китайской не заметили. Удивляются, в чём вопрос. Дескать, достигнуто полное согласие.
Мао Цзэдун. Мы согласны строить за свой счёт, а использовать совместно.
Н. С. Хрущёв. Считал бы, что нужен кредит, помощь с нашей стороны.
Мао Цзэдун. Если будете настаивать на помощи, то мы вообще не будем строить станцию.
Н. С. Хрущёв. Теперь вопрос о Микояне. Мы были удивлены Вашим заявлением, так как все убеждены, что у вас самые хорошие отношения с тов. Микояном. Не думаем, что его можно заподозрить в нелояльности к Китаю, в каких-либо настроениях, которые мешали бы нашей дружбе. Он сам никогда об этом не говорил и мы не видели. Его речь на вашем съезде была рассмотрена на Президиуме ЦК и не имела замечаний. Ему был дан совет показать речь Вам, с тем чтобы внести Ваши замечания и пожелания в обязательном порядке. В 1954 году, когда я здесь выступал, я также послал Вам доклад и просил дать Ваши замечания.
Мао Цзэдун. Мы приветствовали Вашу речь, так как она отражает равноправие. Речь т. Микояна тоже неплохая, но в соотношении хорошего и нежелательного 9:1. Это относится к тону речи, который был несколько поучительным. Некоторые делегаты съезда выражали недовольство, но нам было неудобно об этом говорить т. Микояну. То, что мы говорим, что китайская революция это продолжение Октябрьской революции — это бесспорная истина. Но многие вещи должны говориться самими китайцами. В речи же Микояна было нечто похожее на отношение отца к сыну.
Н. С. Хрущёв. Я не перечитывал сейчас речи, но помню тогда я сказал ему, что очень много внимания уделено международным отношениям. Может быть, не следовало бы этого делать, но Микоян дал какое-то объяснение, и я согласился. Если были допущены некоторые ненужные моменты, то в этом виноват не только он, значит мы все просмотрели.
Теперь вопрос о недовольстве его пребыванием в Сибэйпо.
Мао Цзэдун. Всё, что он там делал, хорошо, но поведение было несколько высокомерным, вроде ревизора.
Н. С. Хрущёв. Я удивлён.
Мао Цзэдун. Я тоже удивлён. Однако в какой-то мере это было похоже на поучение отца сыну.
Н. С. Хрущёв. Мне это трудно объяснять. Вы бы сказали ему. Микоян умеет слушать, прислушиваться и делать выводы.
Мао Цзэдун. Да. Он хороший товарищ. Мы просим его приехать к нам.
Н. С. Хрущёв. Он сейчас в отпуске.
Мао Цзэдун. Мы будем приветствовать его поездку в Китай в любое время. Считали нужным сказать то, что находим неподходящим в его выступлении.
Н. С. Хрущёв. Его пребывание тогда в Китае было вызвано приказом Сталина. Сталин требовал от него донесения каждый день, поручил всё обнюхать, нет ли вокруг вас шпионов. Сталин делал это из хороших побуждений, но по-своему, по-сталински. Тогда Сталин настоял арестовать двух американцев и вы их арестовали. После смерти Сталина Микоян сказал, что они не виноваты. Мы написали вам об этом, и вы их выпустили. Надо учитывать, что тогда Микоян делал не то, что хотел, а что хотел Сталин. Например, из Москвы была выслана Стронг, потом она была реабилитирована. Думаю, что Сталин сделал это потому, чтобы она не ездила в Китай, так как считал её шпионкой. Теперь Стронг собирается побывать в Китае и СССР. Мы не возражаем, хотя она писала о Сталине глупости, и ваша газета это публиковала.
Мао Цзэдун. Не читал, но об этом говорят.
Н. С. Хрущёв. Я читал и слышал, что это газета китайских капиталистов.
Мао Цзэдун. Да, газета была в руках правых.
Н. С. Хрущёв. Статья была направлена против СССР. Думали даже написать вам по этому поводу, но потом решили не стоит, раз газета капиталистов.
Мао Цзэдун. Газета была у правых, сейчас она в наших руках.
Н. С. Хрущёв. Претензий мы не имеем, но Стронг была не права.
Мао Цзэдун. Направление газеты было неправильным, а сейчас это положение изменено.
Н. С. Хрущёв. Ваше дело. Мы тоже считали направление газеты неправильным.
Думаю, что с Микояном решено.
Мао Цзэдун. Он — хороший товарищ. Но соотношение у него 1 к 10, что и породило наши замечания. Мы хотели бы, чтобы он приехал.
Н. С. Хрущёв. У нас в Президиуме нет ни у кого другого мнения о наших отношениях, между нашими партиями. Мы радуемся вашим успехам как своим. Думаем, что и вы также относитесь к нам. Сомнений у нас в этом нет.
Теперь о специалистах. Считаю, что это прыщ на здоровом теле.
Мао Цзэдун. Не согласен с такой формулировкой.
Н. С. Хрущёв. Мы посылаем к вам тысячи специалистов. Как можно поручиться, что все они на 100 % дают правильные советы?
Мао Цзэдун. Правильные более 90 %.
Н. С. Хрущёв. Специалисты, которых мы посылаем, разбираются в своей отрасли, но не занимаются политикой. Мы не можем даже требовать, чтобы они разбирались в наших отношениях. Кто разбирается в них, тот не знает специальности. Поэтому мы и писали вам с просьбой отозвать всех специалистов. Вы бы тогда могли присылать своих людей к нам на учёбу.
Мао Цзэдун. Нужно использовать оба способа.
Н. С. Хрущёв. Но тогда для нас создаются неравноправные условия. Ваших людей у нас нет, и вы гарантированы, что они не наделают глупостей.
Мао Цзэдун. Мы не просим у вас гарантий.
Н. С. Хрущёв. Но ставите нас в неравное положение. Мы присылаем специалистов, они делают глупости, а я должен извиняться.
Мао Цзэдун. Не нужно извинений. Надо урегулировать дело.
Н. С. Хрущёв. Словно нам только этим и заниматься.
Мао Цзэдун. Речь идёт об отдельных лицах. Они все коммунисты.
Н. С. Хрущёв. Не все. Некоторые не коммунисты, а некоторых мы исключаем из партии. Да и это не гарантия от глупостей.
Мао Цзэдун. Это же относится и к Китаю.
Н. С. Хрущёв. Мы не берём патент только на глупость для русских. Это качество интернациональное, поражает все нации. Но условия для нас неравные. Вы можете о глупостях наших специалистов предъявлять претензии, а ваших специалистов у нас нет. Поэтому выходит, что делаем глупости только мы.
Мао Цзэдун. Это по вине истории.
Н. С. Хрущёв. А нам отвечать?
Мао Цзэдун. Вы первыми совершили революцию.
Н. С. Хрущёв. И мы в этом виноваты?
Мао Цзэдун. Поэтому вам и приходится посылать специалистов. Ещё будете посылать их и в Лондон и в другие места.
Н. С. Хрущёв. Тогда это мы будем делать вместе и ответственность и глупости будем делить пополам.
Мао Цзэдун. Наши замечания относятся только к советникам по военной линии и по госбезопасности, а не по хозяйственной.
Н. С. Хрущёв. У нас все делают ошибки, а у вас нет. Все не застрахованы.
Мао Цзэдун. Это мелкие ошибки. Не беда, если они дают иногда неподходящие рекомендации или предлагают неподходящий вариант строительства.
Н. С. Хрущёв. Зачем вам советники по госбезопасности? Неужели сами не обеспечите? Это же политический вопрос.
Мао Цзэдун. Даже и относительно военных советников речь идёт сугубо об отдельных лицах и главным образом относится к тому, что советников часто меняли без согласования с нами. Виноваты в этом очень немногие.
Н. С. Хрущёв. Мы не знаем, кто у вас работает, кто кого меняет. Мы не можем нести ответственность, не можем и контролировать.
Мао Цзэдун. Это не по нашей вине. Видимо, виноват аппарат госбезопасности и военных.
Н. С. Хрущёв. Зачем вам военные советники? Вы такую войну провели, такой опыт приобрели. Зачем они вам? Наши советники воспитывались в других условиях.
Мао Цзэдун. Нам нужны специалисты по технике.
Н. С. Хрущёв. Приезжайте в СССР и изучайте.
Мао Цзэдун. Мы и такую форму применяем и посылаем к вам, но полезно также, чтобы часть специалистов была прислана сюда.
Я говорю об отдельных лицах, а не об отзыве всех.
Н. С. Хрущёв. Мы предложили бы обсудить этот вопрос вместе. Нас очень встревожило ваше замечание о наших работниках. Нам не хотелось бы, чтобы это вызывало у вас беспокойство.
Мао Цзэдун. Согласен с вашим мнением. О конкретных мероприятиях в этом направлении можно поговорить. Большинство советников мы, видимо, должны оставить. Некоторые нам не нужны. Мы дадим их список.
Н. С. Хрущёв. Мы хотели бы получить список всех, чтобы не возникало никаких недоразумений, так как сегодня делает глупости один, а завтра другой.
Мао Цзэдун. Мы просим оставить, а вы хотите забрать советников.
Н. С. Хрущёв. Без вас ничего не сделаем.
Мао Цзэдун. Разница между ними и нашими работниками только в гражданстве.
Н. С. Хрущёв. Согласен, что это временное различие. Главное это коммунистические связи.
Мао Цзэдун. Да. Даже внутри нации бывают противоречия. Например, наших работников с севера не очень приветствуют на юге Китая.
Н. С. Хрущёв. Я слышал, что вы упоминали в беседе с Юдиным о нашем специалисте, который предложил бескесонный способ строительства мостов и которого у нас не поддержали. Скажу, кто не поддержал. Каганович. А какой он специалист?
Спрашиваю его, почему не поддержали? Говорит — нигде не используется такой метод. Но новое потому и новое, что раньше нигде не использовалось.
Я всё высказал, что хотел. Даже у очень хорошей хозяйки, которая любит чистоту, время от времени садится мелкая пыль и поэтому она снимает её мокрой тряпкой. И нам время от времени нужно встречаться, чтобы не накапливалось много пыли.
Мао Цзэдун. Совершенно правильно.
Н. С. Хрущёв. Поэтому когда вы предложили встретиться, мы сочли это нужным. Сначала ответили, что я не могу поехать, потому что думали будет встреча в Нью-Йорке. Но когда получили ответ от западников, стало ясно, что они тянут, поэтому сразу приехали сюда. Это — самая лучшая встреча — полезная и приятная.
Мао Цзэдун. Очень хорошо, что мы побеседовали. Не надо накапливать вопросов. Вношу предложение встречаться и беседовать без всякой повестки, если что-либо возникает или даже если и ничего нет. Всегда о чём поговорить найдётся. Это вопросы международного положения, что нам предпринимать в этом направлении, положение в отдельных странах; вы могли бы нас информировать по отдельным странам, мы могли бы рассказать со своей стороны о других. Вопрос же о «кооперативе» явился неожиданным и является сугубо временным, но из-за этого я не спал ночь, поссорился с Юдиным, вам не дал спать. Зато у нас соблюдён баланс.
Что касается Микояна, то это хороший товарищ. Всё, что он делал в Китае, хорошее. Наше недовольство по отдельным вопросам мы ему выскажем, если он воспримет — хорошо, не воспримет — тоже его дело. Но я должен был провести грань в этом вопросе. Что касается советников, то тут нет и не будет споров. Я говорил и Юдину и всем вашим товарищам, что советники делают огромное и полезное дело и делают его хорошо. Мы часто даём по своей партийной и административной линии указания на места, как нужно относиться к советским советникам. Мы подчёркиваем необходимость хранить сплочённость с ними, отмечаем, что они посланы нам на помощь. 99,9 %, а может быть и больше, из тех людей, которые побывали у нас за семь-восемь лет, это хорошие люди и только отдельные лица не так, как должно относились к делу. Так, например, из группы Петрушевского. Но это вина его, а не его людей.
Н. С. Хрущёв. Вот видите, я даже его не знаю.
Мао Цзэдун. Я тоже никогда не видел Петрушевского. Сейчас хороший руководитель этой группы — Труфанов.
Н. С. Хрущёв. Я его знаю по обороне Сталинграда. Неплохой генерал.
Мао Цзэдун. Мы его ценим. Не нужны нам некоторые советники по госбезопасности.
Н. С. Хрущёв. Вы своих можете посылать. Это вопрос внутренний, политический.
Мао Цзэдун. В Главное политическое управление армии был прислан человек, которого мы не приглашали.
Б. Н. Пономарёв. Можно было бы сказать послу, его сразу бы отозвали.
Мао Цзэдун. Я хочу провести чёткую грань. Подавляющее большинство хорошие работники. Наши замечания относятся лишь к отдельным.
Н. С. Хрущёв. Кто отвечает за тех, что находятся за этой гранью? Хрущёв, а не Мао Цзэдун. Неравные условия. Вы в более выгодном положении.
Мао Цзэдун. Вы действительно хотите всех отозвать?
Н. С. Хрущёв. Нет. Мы предлагаем обсудить. Мы считаем, что кадры не только наш капитал, а общее достояние коммунистических партий. Мы должны использовать их, чтобы свергнуть капитализм.
Мао Цзэдун. Мы не ставим вопрос о советниках. Может быть мы неправильно поставили вопрос о недостатках в работе советников?
Н. С. Хрущёв. Наоборот, хорошо, что сказали, иначе было бы не по-товарищески. Вопрос был бы, а вы молчали.
Мао Цзэдун. Вопрос существует давно, но, например, во время венгерских событий мы его умышленно не ставили. Не ставили его и в то время, когда советские военные советники отзывались из Польши. Замечания относятся к незначительному числу людей и, собственно, к методу их командирования.
Н. С. Хрущёв. Вы поступили мудро. Предоставляем решить вам. Вчера были нужны советники, сегодня нет. Ведь не хотите же вы, чтобы русские ходили с пелёнками около китайцев. Никогда так не было. Вы прошли такой путь борьбы.
Мао Цзэдун. Речь идёт о незначительном числе людей. Один советник военной академии, например, давал указания преподавателям вести преподавание только на основе использования опыта Отечественной войны.
Н. С. Хрущёв. Он как колбаса, чем начинили, то и носит.
Мао Цзэдун. Может быть, сделать всех советников специалистами?
Н. С. Хрущёв. Правильно. Не давать им советовать. Пусть работают.
Мао Цзэдун. Да, работают, но несколько по-другому.
Можете ли вы пробыть до завтра?
Н. С. Хрущёв. А вы хотите нас так быстро отправить?
Мао Цзэдун. Нет, оставайтесь сколько хотите. Относительно времени следующей встречи у нас может возникнуть противоречие. Вы днём работаете, а я днём сплю. Можно будет встретиться после четырёх дня.
Н. С. Хрущёв. Да это противоречие, но не конфликт.
Мао Цзэдун. Стоит ли опубликовать коммюнике о нашей встрече? Может быть, стоит припугнуть империалистов?
Н. С. Хрущёв. Да, неплохо. Пусть подумают, о чём Хрущёв и Мао Цзэдун беседовали в Пекине. С нашей стороны можно было бы поручить работу над коммюнике товарищам Кузнецову, Пономарёву, Федоренко.
Мао Цзэдун. С нашей стороны будут товарищи Ван Цзясян и Ху Цяому. Можно напугать империалистов, а их надо пугать.
Н. С. Хрущёв. Правильно. Возможно, Сталин потому и не хотел заключать с вами договор, что считал возможным нападение на Китай и не хотел ввязываться: немного бы помогали, а воевать не стали. Но он никому об этом не говорил. Мы, например, не имели договора с Албанией. При обсуждении вопроса о Варшавском пакте Молотов предлагал не включать Албанию. Я спрашивал Молотова, почему не включить Албанию. Он говорит, что мы за неё воевать будем? Но если не защищать, так её отберут без боя.
Мао Цзэдун. Да, это крепкая, стойкая нация, ей нужно помочь.
Н. С. Хрущёв. Молотов тогда возражал также и против включения ГДР. Мне кажется, надо было бы обсудить вопрос об укреплении Албании. Ей нужен флот. На какой основе это сделать — кооперации или другой, это обсудим с Энвером Ходжей. Вопрос сложный. Возможно, будет нужна какая-то кооперация. Вы нас за это не осуждайте.
Мао Цзэдун. Да кооперация нужна с Албанией, ГДР, Польшей, Венгрией, а вот с Чехословакией вряд ли. Там нет войск?
Н. С. Хрущёв. Нет. Только в Польше и Венгрии. Когда я был в Венгрии, то предлагал Кадару вывести войска. Он не согласился с этим и дал согласие на сокращение только одной дивизии. Наши войска они поставили на австрийскую границу, но австрийцы им не угрожают. Считаю, что положение в Венгрии очень хорошее. Кадар — хороший человек.
Мао Цзэдун. В случае войны непременно нужно будет кооперироваться. Смотрите, сколько военных баз, сколько забито этих гвоздей вокруг нас: в Японии, на Тайване, Южной Корее, Вьетнаме, на Малайе и т. д.
Н. С. Хрущёв. Да. А сколько в Европе? Кругом базы.
Хорошо, что мы развили экономику, а наши учёные помогли создать ракеты.
Мао Цзэдун. Мы все живём за счёт ваших ракет.
Н. С. Хрущёв. Да, в какой-то степени это так, можно сказать не скромничая. Это сдерживает врагов.
Считаю, что положение в ГДР хорошее.
Мао Цзэдун. Мы такого же мнения. Так характеризовал положение там и т. Дун Биу.
Н. С. Хрущёв. Да, мы с ним встречались в Болгарии и в ГДР.
На этом встреча заканчивается.
Примечания
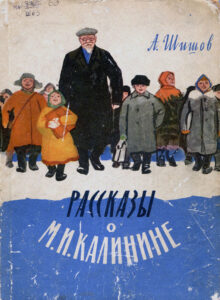 Эта книга рассказывает о Михаиле Ивановиче Калинине — первом президенте первого в мире социалистического государства, мудром, принципиальном и душевном человеке, посвятившем свою жизнь борьбе за счастье людей. Кипучая, наполненная революционной деятельностью жизнь Михаила Ивановича Калинина является примером для молодёжи. Биография Калинина тесно переплетается с летописью массового революционного движения.
Эта книга рассказывает о Михаиле Ивановиче Калинине — первом президенте первого в мире социалистического государства, мудром, принципиальном и душевном человеке, посвятившем свою жизнь борьбе за счастье людей. Кипучая, наполненная революционной деятельностью жизнь Михаила Ивановича Калинина является примером для молодёжи. Биография Калинина тесно переплетается с летописью массового революционного движения.