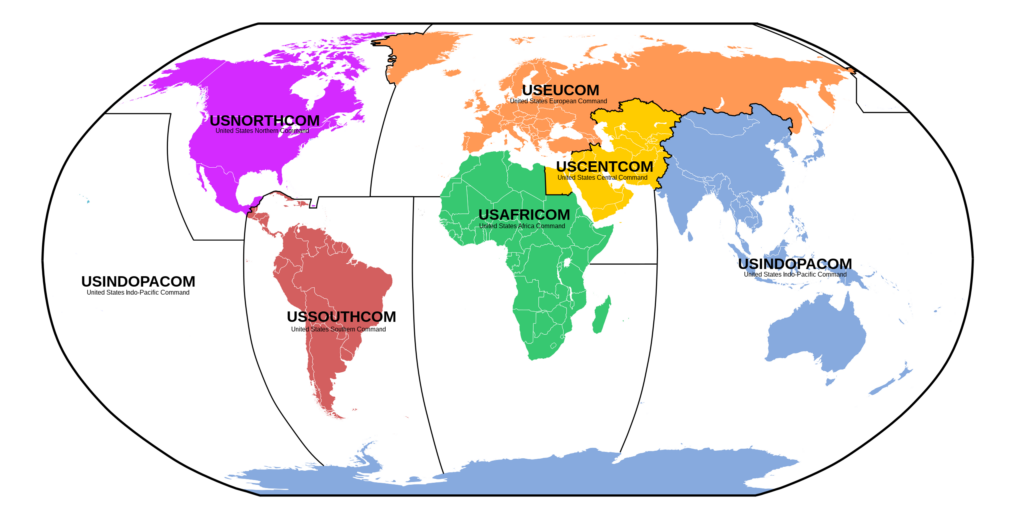Данный очерк основывается на ранее строго засекреченных архивных документах, в частности из личного фонда И. В. Сталина.
Вопрос о поездке Мао Цзэдуна в Москву впервые был поднят в начале 1947 г. Инициатива исходила от китайской стороны и была вызвана крайне тяжёлой обстановкой, сложившейся в то время для Коммунистической партии Китая (КПК). Переговоры между КПК и Гоминьданом зашли в тупик. Миротворческая посредническая миссия специального представителя президента США генерала Дж. Маршалла окончилась полной неудачей. В Китае разразилась ещё более ожесточённая гражданская война, охватившая Северный Китай и Маньчжурию. На всех фронтах войска КПК терпели тяжёлые поражения. В Северном Китае гоминьдановские войска нанесли удары по главной опорной базе КПК — «Особому району Китая», захватили город Яньань, где с 1936 г. находилась штаб-квартира ЦК КПК и командования коммунистических войск. В Маньчжурии войска Чан Кайши нанесли серьёзные поражения созданной здесь при содействии СССР так называемой Объединённой демократической армии под командованием Линь Бяо, отбросили уцелевшие войска коммунистов за реку Сунгари, захватили всю южную часть Маньчжурии, за исключением Ляодунского полуострова, находившегося под контролем СССР, и готовились двинуться в северную часть Маньчжурии, куда отступили войска Линь Бяо.
Чтобы избежать полной катастрофы, Мао Цзэдуну крайне необходима была более активная и широкая помощь СССР. С этой целью он собирался отправиться в Москву, чтобы обсудить со Сталиным сложившуюся обстановку в Китае, вопросы стратегии и тактики китайской революции, получить советы, а главное — практическую помощь: оружие, боеприпасы, прочие военно-технические средства и многое другое.
Сталин дал согласие на приезд Мао Цзэдуна в Москву. В шифротелеграмме своему связнику А. Я. Орлову, находившемуся при штаб-квартире Мао Цзэдуна, он писал 15 июня 1947 г.:
«Передайте Мао Цзэдуну, что ЦК ВКП(б) считает желательным его приезд в Москву без каких-либо разглашений. Если Мао Цзэдун считает это нужным, то нам представляется, что это лучше сделать через Харбин. Если нужно будет, то пришлём самолет. Передайте результаты беседы с Мао Цзэдуном и его пожелания».
Однако вскоре Сталин передумал и 1 июля направил Орлову телеграмму, аннулирующую указанное выше согласие. Он поручил сообщить Мао Цзэдуну, что «ввиду предстоящих военных операций и ввиду того, что отсутствие Мао Цзэдуна может плохо отразиться на операциях, мы считаем целесообразным временно отложить поездку в Москву Мао Цзэдуна
».
Разумеется, ссылка Сталина на фронтовую обстановку была всего лишь предлогом для отказа в разрешении на приезд Мао Цзэдуна в СССР. Подлинные причины заключались в том, что международная обстановка резко обострилась, особенно в Центральной Европе, вокруг германской проблемы, а также серьёзно осложнились отношения СССР и США в связи с событиями в Китае. В этих условиях появление Мао Цзэдуна в Москве (а Сталин был не уверен, что сведения об этом не просочатся) могло бы иметь весьма неблагоприятный для советского правительства международный резонанс.
После упомянутой телеграммы переписка по вопросу о поездке Мао Цзэдуна в Москву продолжалась и в 1948, и в 1949 г. В телеграмме Сталину 21 ноября 1948 г. Мао Цзэдун выразил пожелание посетить Москву в конце декабря 1948 г. В ответной телеграмме от 14 декабря 1948 г. Сталин предложил перенести его приезд на более поздний срок. Он мотивировал это тем, что, во-первых, обстановка в Китае, по мнению Москвы, требует присутствия Мао Цзэдуна в Китае, и, во-вторых, в намеченное Мао Цзэдуном время многих советских руководителей не будет в Москве — они отправятся на периферию в связи с проведением хлебозаготовок. Сталин писал:
«Мы всё же настаиваем, чтобы Вы отложили Вашу поездку в Москву, так как Ваше пребывание в Китае очень необходимо в настоящее время. Если Вы хотите, мы можем немедленно послать к Вам ответственного члена Политбюро для переговоров по интересующим нас вопросам».
Причина отсрочки и на этот раз в действительности состояла не в том, что этого не позволяла обстановка в Китае, которая была известна Мао Цзэдуну не хуже, чем Москве, и не в занятости советских руководителей хлебозаготовками, чему Мао Цзэдун, разумеется, не поверил и высказал это связнику Орлову. Причина была в другом. При обсуждении этого вопроса на политбюро 14 ноября 1948 г. Сталин изложил такие соображения: Мао Цзэдун всё ещё находится в роли «партизанского руководителя». Даже при самой строгой конспирации сведения о его приезде в СССР могут просочиться, и этот приезд будет истолкован на Западе как посещение Москвы для получения инструкций, а самого Мао Цзэдуна назовут «московским агентом». События в Китае, по мнению Сталина, развивались так, что вскоре, возможно, будет образовано новое правительство во главе с Мао Цзэдуном и тогда он сможет приехать в СССР не инкогнито, а официально, как глава китайского правительства. Исходя из этих соображений, Сталин предложил отложить приезд Мао Цзэдуна в конце декабря 1948 г. и вместо этого направить в Китай с секретной миссией «ответственного представителя Политбюро ЦК ВКП(б)
».
Мао Цзэдун согласился с предложением Сталина и попросил направить советского представителя в Сибайпо (Северный Китай), где находилась штаб-квартира политбюро ЦК КПК и Мао Цзэдуна. Эта миссия была возложена Сталиным на члена политбюро А. И. Микояна, который в целях конспирации прибыл туда 30 января 1949 г. под вымышленной фамилией Андреев. Его сопровождали бывший министр путей сообщения И. В. Ковалёв и в качестве переводчика сотрудник аппарата ЦК ВКП(б) Е. Ф. Ковалёв. В течение семи дней проходили интенсивные переговоры Микояна по широкому кругу вопросов гражданской войны, внутренней и внешней политики, советско-китайских отношений. Мао Цзэдуном и участвовавшими вместе с ним в переговорах Чжоу Эньлаем, Лю Шаоци, Чжу Дэ и Жень Биши были изложены просьбы о предоставлении КПК советской военно-технической, финансово-экономической, кадровой и другой различной помощи. Для дальнейших переговоров и консультаций с советским руководством, для заключения соответствующих соглашений Мао Цзэдун предложил направить в Москву специальную делегацию ЦК КПК. Поездка такой делегации во главе с секретарем ЦК КПК Лю Шаоци состоялась в июне — августе 1948 г.
После провозглашения 1 октября 1949 г. Китайской Народной Республики и создания правительства КНР вновь встал вопрос о поездке Мао Цзэдуна в Москву, но теперь уже в новом его качестве — как главы правительства Китая. И на этот раз инициатива исходила от Мао Цзэдуна. Сначала он выразил пожелание поехать в Москву через И. В. Ковалёва, выполнявшего роль представителя ЦК ВКП(б) при ЦК КПК, в беседе 5 ноября. Мао Цзэдун сообщил ему о своём желании посетить И. В. Сталина в Москве в декабре, чтобы «лично поздравить тов. Сталина с днём рождения
». По мнению Мао Цзэдуна, «в день 70‑летия тов. Сталина в Москву прибудут делегации от друзей СССР со всего мира, и поездка Мао Цзэдуна в Москву может поэтому носить совершенно открытый характер
». 8 ноября Мао Цзэдун по дипломатическим каналам послал телеграмму аналогичного содержания в Москву. А 10 ноября по поручению Мао Цзэдуна Чжоу Эньлай посетил советского посла Н. В. Рощина и сообщил ему о желании Мао Цзэдуна посетить тов. Сталина и просил передать об этом в Москву.
На вопрос посла, какой характер будет носить визит Мао Цзэдуна в Москву и кто из правительственных деятелей будет сопровождать его, Чжоу Эньлай ответил, что во время визита, кроме установления личного дружественного контакта со Сталиным, Мао Цзэдун также, видимо, захочет обсудить вопрос о советско-китайском договоре. Никто из членов правительства вместе с Мао Цзэдуном в Москву не поедет, но если в результате поездки Мао Цзэдуна будет разработан новый советско-китайский договор, то его, Чжоу Эньлая, могут срочно на самолёте доставить в Москву для подписания этого документа.
К тому, о чём сообщил Чжоу Эньлай Рощину, следует добавить весьма важную, на наш взгляд, деталь, о которой Чжоу Эньлай почему-то не сообщил. Как видно из документов, с которыми нам представилась возможность ознакомиться в Президентском архиве, в беседе Мао Цзэдуна с Ковалёвым, о чём Чжоу Эньлай сообщил советскому послу, Мао Цзэдун, выражая пожелание посетить Москву, заявил, что одна из главных целей его поездки состоит в том, чтобы отдохнуть и подлечиться. И в Москве это было учтено: Сталин, советское руководство старались не перегружать программу пребывания Мао Цзэдуна различными мероприятиями, хотели дать ему возможность отдохнуть и подлечиться. На это пожелание Мао Цзэдуна важно обратить внимание, поскольку после его визита в Москву в зарубежной печати появилось немало спекуляций по поводу того, что программа пребывания Мао Цзэдуна в СССР была не столь насыщена официальными встречами и другими мероприятиями, как ожидали зарубежные журналисты и политические обозреватели. Они расценили это как недостаточное внимание к Мао Цзэдуну со стороны советского руководства. После начала в 60‑х годах ссоры между Пекином и Москвой эту версию принялся распространять и сам Мао Цзэдун, что, как видим, не соответствует истине.
Такова краткая предыстория визита Мао Цзэдуна в Москву в декабре 1949 — феврале 1950 г.
16 декабря 1949 г. Мао Цзэдун поездом прибыл в Москву. Его сопровождали два помощника — Чень Бода, Ши Чжэ — и ещё несколько человек. Никого из высокопоставленных официальных лиц в его свите не было.
На Ярославском вокзале советским правительством была устроена торжественная встреча со всеми принятыми в то время в СССР высочайшими официальными почестями. Сталина на этой церемонии не было. По существовавшему в те годы дипломатическому протоколу Сталин встречать высоких гостей или провожать их на железнодорожные вокзалы или в аэропорты лично не выезжал. Так было и на этот раз. Мао Цзэдуна встречали от имени Сталина два заместителя председателя Совета Министров СССР — В. М. Молотов и Н. А. Булганин, а также министр внешней торговли М. А. Меньшиков, зам. министра иностранных дел А. А. Громыко и другие официальные лица. На церемонии встречи присутствовали сотрудники посольства КНР в Москве во главе с послом Ван Цзясяном и послы социалистических стран.
В тот же день состоялась встреча Сталина с Мао Цзэдуном. Беседа носила очень тёплый, дружественный, откровенный и взаимно уважительный характер. Это опровергает распространившиеся в некоторых странах в годы «холодной войны» вымыслы, будто Сталин очень долго не принимал Мао Цзэдуна и относился к нему без должного внимания и уважения.
На упомянутой встрече Сталина с Мао Цзэдуном с советской стороны присутствовали: В. М. Молотов — член политбюро ЦК ВКП(б), заместитель председателя Совета Министров СССР, Г. М. Маленков — член политбюро, секретарь ЦК ВКП(б), Н. А. Булганин — член политбюро, заместитель председателя Совета министров СССР, А. Я. Вышинский — министр иностранных дел СССР, Н. Т. Федоренко — заведующий Дальневосточным отделом МИД СССР. С китайской стороны вместе с Мао Цзэдуном присутствовал лишь его помощник Ши Чжэ (он же Карский). В 1930—1940‑х годах он находился в СССР, работал в составе делегации КПК в Коминтерне, в 40—50‑е годы был ответственным работником аппарата ЦК КПК. В это время в Москве находился посол КНР в Советском Союзе Ван Цзясян, который одновременно являлся представителем ЦК КПК для связи с ЦК ВКП(б). Но почему-то Мао Цзэдун не счёл целесообразным его присутствие на встрече с высшими советскими руководителями. Ши Чжэ прекрасно владел русским языком и выполнял роль личного переводчика Мао Цзэдуна. Со стороны советского руководства переводчиком был Н. Т. Федоренко.
После обмена приветствиями и краткой беседы протокольного характера, принятой перед началом разговора по существу, между Сталиным и Мао Цзэдуном состоялось обсуждение всего спектра вопросов, касавшихся международной обстановки и советско-китайских отношений.
В мемуарах некоторых китайских деятелей, опубликованных начиная с середины 60‑х годов, когда отношения между Москвой и Пекином начали резко портиться в связи с идеологическими разногласиями, была высказана версия, будто бы беседа между Сталиным и Мао Цзэдуном началась с высказанного Сталиным замечания о том, что «победителей не судят
». Приписав Сталину эти слова, некоторые авторы мемуаров также утверждали, что Сталин будто бы принёс свои извинения Мао Цзэдуну за то, что он, Сталин, «не верил» в победу китайской революции и даже «мешал» её победе.
В советских архивных документах упомянутое замечание Сталина нигде не встречается и отсутствуют какие-либо «извинения» со стороны Сталина, поскольку многочисленные факты, лежавшие, как говорится, на поверхности, показывали любому мыслящему обозревателю, наблюдавшему за ходом событий в Китае, что победа КПК над Гоминьданом оказалась возможной только благодаря помощи китайским коммунистам со стороны СССР. Это подтверждает и запись беседы Сталина с Мао Цзэдуном, содержание которой излагается ниже.
Мао Цзэдун начал беседу с постановки вопроса об опасности войны. Это беспокоило его более всего. Правда, в своих публичных заявлениях и даже в закрытых партийных документах Мао Цзэдун и другие руководители КПК высказывались очень храбро. Они подчеркивали, что КПК не боится никаких угроз и что войска КПК отразят любые нападения со стороны внешних сил. Но то были лишь слова — в душе руководители КПК испытывали неуверенность и тревогу. Они понимали, что США не примирятся со своим поражением в Китае и вместе с укрывшимися на Тайване гоминьдановскими вооружёнными силами будут готовиться к реваншу. Поэтому в самом начале беседы, отвечая на вопрос Сталина, какие проблемы он хотел бы обсудить, Мао Цзэдун заявил:
«Главнейшим вопросом в настоящее время является вопрос об обеспечении мира. Китай нуждается в мирной передышке продолжительностью в 3—5 лет, которая была бы использована для восстановления предвоенного уровня экономики и стабилизации общего положения в стране. Решение важнейших вопросов в Китае находится в зависимости от перспектив на мир. В связи с этим ЦК КПК поручил мне выяснить у Вас, тов. Сталин, вопрос о том, каким образом и насколько обеспечен международный мир».
Сталин ответил, что вопрос о мире находится в центре внимания и советского руководства. «Что касается Китая,
— сказал Сталин,— то непосредственной угрозы для него в настоящее время не существует: Япония ещё не встала на ноги и поэтому она к войне не готова; Америка, хотя и кричит о войне, больше всего войны боится; в Европе запуганы войной; в сущности, с Китаем некому воевать, разве что Ким Ир Сен пойдет на Китай?
»,— пошутил Сталин. Он подчеркнул, что мир зависит от совместных усилий СССР и КНР.
«Если будем дружны, мир может быть обеспечен не только на 5—10, но и на 20—25 лет, а возможно, и на более продолжительное время».
Далее Мао Цзэдуном был затронут вопрос о советско-китайском договоре, заключённом между СССР и правительством Чан Кайши 14 августа 1945 г. Ранее эта тема рассматривалась по инициативе китайской стороны во время встречи руководителей КПК с Микояном в Сибайпо, ездившим туда с секретной миссией в январе-феврале 1949 г., а вскоре после этого обсуждалась на встречах Сталина с делегацией ЦК КПК во главе с Лю Шаоци, которая находилась с аналогичной секретной миссией в Москве в июне-августе 1949 г.
В беседах с Микояном Мао Цзэдун и Чжоу Эньлай выразили полное удовлетворение упомянутым договором и высказались за то, чтобы оставить его в силе после установления коммунистической власти в Китае. На встрече с Микояном, состоявшейся 4 февраля, Мао Цзэдун заявил, что китайская общественность проявляет большой интерес к позиции КПК в отношении договоров, заключённых Китаем с зарубежными странами, в том числе и к советско-китайскому договору от 14 августа 1945 г. Мао Цзэдун сказал, что в связи с требованием КПК об отмене «предательских договоров» лидеры демократических партий спрашивают руководителей КПК, что они имеют в виду под «предательскими договорами». В разъяснениях по этому вопросу представителям китайской общественности руководители КПК подчёркивают, что они подходят к данной проблеме дифференцированно и не требуют отмены всех договоров, заключённых Чан Кайши, поскольку среди них имеются договоры, как выразился Мао Цзэдун, «патриотического характера», которые КПК намерена оставить в силе. К «патриотическим договорам» Мао Цзэдун отнёс советско-китайский договор от 14 августа 1945 г. Докладывая Сталину о содержании беседы с Мао Цзэдуном, Микоян в шифротелеграмме из Сибайпо, в частности, писал:
«Я спросил Мао Цзэдуна, чем он обосновывает в беседах патриотический характер советско-китайского договора, на что Мао Цзэдун сказал, что ‹…› Советский Союз пришёл в Порт-Артур, чтобы защищать себя и Китай от японского фашизма, ибо Китай настолько слаб, что сам не может защищать себя без помощи СССР. СССР пришёл на КЧЖД и в Порт-Артур не как империалистическая сила, а как социалистическая сила для защиты общих интересов.
На вопрос о том, почему коммунисты выступают против американской морской базы в Циндао и защищают советскую базу в Порт-Артуре, Мао Цзэдун ответил, что американский империализм сидит в Китае для угнетения, а СССР, имеющий свои силы в Порт-Артуре,— для защиты от японского фашизма. Когда Китай окрепнет и будет в состоянии самостоятельно защищаться от японской опасности, тогда Советский Союз сам не будет нуждаться в базе Порт-Артура».
Перед поездкой Микояна в Сибайпо советским руководством было принято решение о том, чтобы в случае установления в Китае власти КПК аннулировать советско-китайский договор 1945 г. в части, касающейся военно-морской базы Порт-Артур, и вывести советские войска с Ляодунского полуострова. Это решение было мотивировано тем, что соглашение о Порт-Артуре было неравноправным, т. е. ущемляющим суверенные права Китая, поскольку это соглашение предоставляло СССР полный контроль в одностороннем порядке над военно-морской базой и окружающей её обширной зоной на суше и на море.
На московских переговорах в июне — августе 1945 г. при выработке советско-китайского договора о дружбе и союзе делегация правительства Чан Кайши, возглавлявшаяся Сун Цзывэнем, не возражала против заключения соглашения о Порт-Артуре в интересах защиты Китая от повторения агрессии со стороны Японии, но требовала, чтобы контроль над военно-морской базой находился в руках китайцев или по крайней мере под совместным управлением СССР и Китая — на равных основаниях. Советское правительство настояло на том, чтобы управление военно-морской базой и оборонительной зоной вокруг неё находилось целиком в руках советского военного командования. В обоснование своей позиции советское правительство выдвинуло на упомянутых переговорах целый ряд мотивов, но не раскрыло главного из них: Сталин не доверял Чан Кайши и был обеспокоен политикой США в Китае и на Дальнем Востоке.
Сталин считал, что приход к власти КПК коренным образом изменит обстановку на Дальнем Востоке и благотворно отразится на советско-китайских отношениях и что в связи с этим нет особой необходимости держать советские войска на Ляодунском полуострове. Микояну было поручено изложить эту точку зрения советского правительства руководству КПК. Докладывая о выполнении данного поручения, Микоян в шифротелеграмме 6 февраля писал:
«По вопросу о советско-китайском договоре я сказал, что мы считаем советско- китайский договор о Порт-Артурском районе неравным договором, заключённым для того, чтобы помешать сговору Гоминьдана с Японией и США против СССР и освободительного движения в Китае. Этот договор, сказал я, принёс известную пользу освободительному движению в Китае, но теперь, с приходом к власти китайских коммунистов, обстановка в стране в корне меняется. В связи с этим, продолжал я, у Советского правительства имеется решение отменить этот неравный договор и вывести свои войска из Порт-Артура, как только будет заключён мир с Японией. Но если китайская компартия, сказал я, сочтёт целесообразным немедленный вывод войск, то СССР готов пойти на это. Что касается договора о китайско-чаньчуньской железной дороге, то мы не считаем его неравным договором, так как эта дорога была построена, главным образом, на средства России. Возможно, сказал я, что в этом договоре принцип равноправия не вполне проведён, но мы готовы обсудить этот вопрос и решить его с китайскими товарищами по-братски».
«Оценка договора как неравноправного,— продолжал Микоян,— была настолько неожиданной для Мао Цзэдуна и членов политбюро, что вызвала у них откровенное удивление. После чего Мао Цзэдун и члены политбюро почти враз заговорили, что сейчас не следует выводить советские войска из Ляодуна и ликвидировать базу в Порт-Артуре, так как этим мы только поможем США. Мао Цзэдун заявил, что вопрос о выводе войск из Ляодуна мы будем держать в секрете и что договор можно пересмотреть только тогда, когда в Китае будет разбита политическая реакция, народ будет мобилизован в наступление на иностранный капитал с целью его конфискации, когда с помощью Советского Союза „мы приведём себя в порядок
“. Китайский народ, сказал Мао Цзэдун, благодарен Советскому Союзу за этот договор. Когда мы окрепнем, тогда „вы уйдёте из Китая
“ и мы заключим советско-китайский договор о взаимопомощи наподобие советско-польского договора».
В таком же духе позиция руководства КПК была изложена делегацией ЦК КПК, находившейся в Москве в июне — августе 1949 г. В докладе делегации от 4 июля, представленном на рассмотрение политбюро ЦК ВКП(б), указывалось:
«Советско-китайский договор о дружбе и союзе в прошлом уже принёс большую пользу китайскому народу. Новое правительство Китая примет этот договор, и это будет ещё большим вкладом для народов Китая и СССР и особенно для китайского народа. Мы полностью желаем принять этот договор.
Во время установления дипломатических отношений между СССР и Китаем потребуется заняться этим договором. В общем в отношении этого договора можно действовать по одному из следующих трёх принципов:
-
Новое правительство Китая заявит о своем полном принятии этого договора и продолжении его действия без каких бы то ни было изменений.
-
В духе первоначального текста договора представители обоих правительств снова заключат новый договор о дружбе и союзе между СССР и Китаем для того, чтобы на основе новой обстановки были внесены некоторые стилистические изменения и изменения по содержанию.
-
Представители правительств обеих стран обменяются нотами о том, что данный договор временно остаётся таким, каким он есть, но они готовы в соответствующий момент вновь его пересмотреть».
В докладе спрашивалось мнение Сталина: «Какой вариант из вышеуказанных трёх вариантов является хорошим?
». На полях этой части доклада Сталин написал: «Решить вопрос с приездом Мао Цзэдуна в Москву
».
16 декабря 1949 г. Сталин в беседе с Мао Цзэдуном, касаясь этого вопроса, подчеркнул:
«Необходимо выяснить, следует ли объявить о сохранении существующего договора о союзе и дружбе между СССР и Китаем от 1945 г. или теперь же внести в него соответствующие поправки, пояснив при этом, что, как известно, этот договор был заключён между СССР и Китаем в результате Ялтинского соглашения, предусматривавшего главнейшие положения договора (вопрос о Курильских островах, Южном Сахалине, Порт-Артуре и др.). Это означает, что указанный договор заключался, так сказать, с ведома Америки и Англии. Имея в виду это обстоятельство, мы в своём узком кругу решили пока не изменять никаких пунктов этого договора, так как изменение хотя бы одного пункта могло бы дать Америке и Англии юридический повод поставить вопрос и об изменении пунктов договора, касающихся Курильских островов, Южного Сахалина и др. Поэтому было найдено возможным формально сохранить, а фактически изменить существующий договор, т. е. сохранить формально право Советского Союза на содержание своих войск в Порт-Артуре, но по предложению Китайского правительства вывести находящиеся там части Советской Армии. Такую операцию можно было бы проделать по просьбе китайской стороны.
Что касается КЧЖД, то и в этом случае можно было бы формально сохранить, а фактически изменить соответствующие пункты соглашения с учётом пожеланий китайской стороны. Если, однако, эта комбинация не удовлетворяет китайских товарищей, то они могут выдвинуть свои предложения».
Мао Цзэдун согласился с доводами Сталина о том, что вопрос о советско-китайском договоре требует очень взвешенного, осторожного подхода, поскольку он связан со всей Ялтинской международной структурой, нарушать которую — дело весьма рискованное. Мао Цзэдун подтвердил ранее выраженную руководством КПК позицию о целесообразности оставить договор 1945 г. без всяких изменений. Он заявил:
«Нынешнее положение с КЧЖД и Порт-Артуром соответствует интересам Китая, так как сил одного Китая недостаточно для того, чтобы успешно бороться против империалистической агрессии. Кроме того, КЧЖД является школой по подготовке китайских железнодорожных и промышленных кадров».
В ответ Сталин отметил:
«Увод войск ещё не означает, что СССР отказывается от помощи Китаю, если она, эта помощь, потребуется. Дело в том, что нам, коммунистам, не совсем удобно держать свои войска на чужой территории, особенно же на территории дружественной страны. Ведь при таком положении всякий может сказать, что, если советские войска находятся на китайской территории, то почему, например, англичане не могут держать своих войск в Гонконге, а американцы — в Токио?
Мы выиграли бы в международных отношениях, если бы советские войска по взаимному согласию были выведены из Порт-Артура. Вывод советских войск вместе с тем явился бы серьёзным подспорьем китайским коммунистам в их взаимоотношениях с национальной буржуазией. Все увидят, что коммунисты сделали то, чего не мог сделать Чан Кайши. С национальной буржуазией китайские коммунисты должны считаться».
Выслушав изложенные Сталиным соображения, Мао Цзэдун сказал, что при обсуждении в ЦК КПК вопроса о договоре не были учтены позиции США и Англии в связи с Ялтинским соглашением.
«Мы должны поступать так,— подчеркнул Мао Цзэдун,— как выгодно общему делу. Этот вопрос следует обдумать. Однако уже теперь становится ясным, что сейчас изменять договор не следует, как не следует спешить и с выводом войск из Порт-Артура».
Далее Мао Цзэдун выразил пожелание решить вопрос о кредите Советского Союза Китаю, т. е. оформить соглашение о кредите на сумму 300 млн американских долларов между правительствами СССР и Китайской Народной Республики.
С просьбой о предоставлении советского займа Мао Цзэдун обратился к Сталину ещё во время встреч с Микояном в Сибайпо. В телеграмме из Сибайпо Микоян писал:
«Они хотели бы в течение 3‑х лет получить заём серебром (для возможного выпуска твёрдой валюты), нефтью, сырьём, оборудованием и др. на сумму 300 млн ам. долларов. Они хотели бы получить эту сумму равными частями начиная с 1949 г. Говоря о займе, Мао Цзэдун сказал, что 300 млн — это наша потребность. Мы не знаем, можете ли вы дать нам эту сумму, меньше или больше её, но если даже не дадите, то в обиде на вас мы не будем. Мы не просим бесплатной помощи, так как это было бы эксплуатацией Советского Союза со стороны Китая. Мы просим возвратный заём с уплатой соответствующих процентов, которые сможет уплатить в будущем Китай. Последнее важно для китайских рабочих, которые будут знать, что заём надо возвратить Советскому Союзу.
До сих пор, продолжал Мао Цзэдун, мы получали вооружение бесплатно. Но нам известно, что в производство советского вооружения входит труд советских рабочих, который следует оплачивать. Нам не ясен вопрос о том, чем мы должны оплачивать этот заём. Если вопрос о займе разрешится положительно, то мы пошлём нашу делегацию в Москву для подписания соответствующего соглашения».
Как уже упоминалось выше, визит такой делегации во главе с Лю Шаоци состоялся в июне — августе 1949 г. На переговорах в Москве обсуждались вопросы стратегии и тактики китайской революции, а также вопросы предоставления китайской компартии советской помощи, необходимой для успешного завершения гражданской войны и закрепления победы. Одним из таких вопросов был вопрос о советском займе.
На встрече с китайской делегацией, состоявшейся 27 июня, Сталин заявил, что ЦК ВКП(б) решил предоставить ЦК КПК кредит в сумме 300 млн американских долларов. При этом Сталин заметил, что «подобное соглашение между двумя партиями заключается впервые в истории
». В отношении подписания соглашения о кредите Сталин тогда сказал, что «имеется два варианта: первый — подписать соглашение представителям ЦК ВКП(б) и ЦК КПК и второй — уполномоченными Советского правительства и правительства Маньчжурии, которое уже существует, с тем, чтобы впоследствии, когда будет создано всекитайское демократическое коалиционное правительство, оформить соглашение договорами между правительствами Советского Союза и Китая
».
Из двух вариантов предпочтение было отдано второму — «маньчжурскому». И вот теперь пришло время заменить ранее достигнутую договоренность официальным соглашением на межгосударственном уровне. Отвечая на пожелания Мао Цзэдуна, Сталин сказал: «Если вы хотите оформить соглашение теперь, то мы согласны
», на что Мао Цзэдун отреагировал мгновенно: «Да, именно теперь, так как это могло, бы вызвать хороший резонанс в Китае
».
Вслед за вопросом о займе Мао Цзэдун обратился к Сталину с просьбами «решить вопрос о торговле, особенно между СССР и Синьцзяном
», а также об оказании помощи правительству КНР в установлении воздушных путей сообщения между Китаем и СССР, в создании морского флота и освобождении острова Тайвань, куда перебазировалось правительство Чан Кайши и уцелевшие от разгрома остатки гоминьдановских войск.
Как известно, в результате конфликта, возникшего в советско-китайских отношениях в начале 40‑х годов, советское правительство закрыло все свои торговые и промышленные предприятия в Синьцзяне, демонтировало и вывезло всё оборудование с этих предприятий и прекратило всякие деловые связи с Синьцзяном. Это поставило провинцию Синьцзян с её многонациональным населением в условия жесточайшей экономической блокады. Положение осложнялось ещё тем, что экономические связи этой провинции с другими районами Китая были крайне затруднены из-за отсутствия коммуникаций, в самой провинции не существовало собственной китайской промышленности, снабжение населения самыми необходимыми промышленными товарами, включая такие, как спички, керосин для освещения жилищ, простейшие ткани для одежды и т. п., целиком зависело от поставок из СССР или от производства на действовавших в Синьцзяне советских и смешанных советско-китайских предприятиях. Из-за остановки этих предприятий и прекращения поставок товаров из СССР население Синьцзяна оказалось в труднейшем положении, что резко усилило недовольство политикой китайских властей со стороны многонационального населения Синьцзяна, которое вылилось в открытые вооружённые восстания. Правительство Чан Кайши предпринимало отчаянные попытки урегулировать советско-китайский конфликт в Синьцзяне, восстановить и даже ещё более расширить торгово-экономические связи с СССР. Но советское правительство по политическим соображениям заняло негативную позицию: с окончанием второй мировой войны оно всё более и более склонялось на антигоминьдановский политический курс.
Чтобы установить свою власть в Китае и укрепить её, китайскому коммунистическому руководству необходимо было создать нормальные экономические условия в стране, особенно в районах, где проживали национальные меньшинства, которые были настроены не только против любых китайских властей, гоминьдановских и коммунистических, но против китайцев в целом, считая их своими поработителями. Разрешению острых экономических проблем в КНР мешала блокада, установленная правительством Чан Кайши и поддержанная США и многими другими странами, из которых Китай получал промышленные товары. Почти единственным источником получения нужных КНР товаров, машинного оборудования и другой экономической и технической помощи были СССР и коммунистические страны Восточной Европы.
Выслушав просьбы Мао Цзэдуна, Сталин выразил согласие на установление широких торгово-экономических связей с КНР и на поставку промышленного оборудования. При этом он предложил представить в кратчайший срок конкретные заявки, что именно нужно КНР, поскольку, пояснил Сталин, в СССР нет резервного оборудования, а заказы на него размещаются в советской промышленности по крайней мере за год.
Относительно налаживания воздушного сообщения Сталин сказал:
«Мы готовы оказать такую помощь. Воздушные трассы могут проходить через Синьцзян и МНР. Мы имеем специалистов. Помощь будет обеспечена».
Что касается помощи в создании морского флота, Сталин ответил:
«Кадры китайского морского флота можно было бы готовить в Порт-Артуре. Вы дадите людей, а мы дадим корабли. Обученные кадры китайского морского флота могли бы вернуться в Китай на этих же кораблях».
Мао Цзэдун подчеркнул, что военно-морской флот и военно-воздушные силы особенно нужны КПК для освобождения Тайваня. Ранее вопрос об этом поднимался во время пребывания в Москве делегации ЦК КПК во главе с Лю Шаоци. Мао Цзэдун рассчитывал решить тайваньскую проблему в 1949 г. или по крайней мере в 1950 г. путём осуществления военной операции при содействии СССР. Он полагал, что эта операция будет поддержана восстанием населения и гоминьдановских войск на самом Тайване. В докладе делегации от 4 июля 1949 г., представленном Лю Шаоци на рассмотрение политбюро ЦК ВКП(б), в частности, говорилось:
«Формоза, Хайнань и Синьцзян будут освобождены в течение будущего года. В связи с тем, что гоминьдановские войска, возможно, выступят на нашей стороне, освобождение может произойти раньше этого срока».
В телеграмме от 25 июля, направленной из Пекина в адрес китайской делегации для передачи Сталину, Мао Цзэдун писал:
«В Шанхае, с момента блокады, усиливается большая трудность. Но для того, чтобы сломить эту блокаду, необходимо захватить Формозу, а без авиации её взять невозможно. Мы хотели, чтобы Вы обменялись мнением с тов. Сталиным насчёт того, может ли СССР оказать нам помощь в этой области, т. е. подготовить в Москве в пределах 6 месяцев — 1 года для нас 1 000 лётчиков и 300 технических работников аэродромной службы. Кроме того, может ли СССР продать нам 100—200 истребителей, 40—80 бомбардировщиков, которые будут использованы для военной операции по взятию Формозы. В области создания морского флота мы тоже просим, чтобы СССР помог нам. Предполагаем, ко второй половине будущего года, т. е. во время наступления наших войск на Формозу, вся территория китайского континента, за исключением Тибета, будет занята нами. ‹…›
Прошу Вас доложить об этом товарищу Сталину, чтобы он взвесил наши планы, возможно ли их провести в жизнь? Если эти планы в общих чертах приемлемы, то мы намерены сейчас же послать курсантов в СССР. Конкретный проект по обучению лётчиков разрабатывается. Потом сообщим Вам».
Из всех вопросов, которые поднимались руководством КПК перед Москвой относительно оказания помощи, наибольшую осторожность Сталин проявлял в отношении того или иного участия в захвате Тайваня. Он уклонился от ответа на обращение с такой просьбой во время переговоров с делегацией Лю Шаоци в июне — августе 1949 г. Весьма уклончивую позицию Сталин занял по этому вопросу и на переговорах с Мао Цзэдуном. На просьбу последнего «направить своих лётчиков-волонтёров или секретные воинские части для ускорения захвата Формозы
» Сталин ответил, что «оказание помощи не исключено, но формы помощи нужно обдумать. Главное здесь — не дать повода американцам для вмешательства. Что касается штабных работников и инструкторов, то их мы можем дать в любое время. Остальное обдумаем
». И далее Сталин предложил «отобрать роту десантников из бывшего гоминьданского десантного полка, перешедшего на сторону коммунистов, распропагандировать их, забросить на Формозу и через них организовать восстание на острове
».
Разумеется, такая помощь, как посылка лишь штабных работников и инструкторов, Мао Цзэдуна не устраивала, а на большее Сталин идти не решался, ограничившись общим обещанием «подумать
». Что касается совета о заброске на Тайвань «роты десантников
» НОА и организации с их помощью восстания на Тайване, то сам Сталин вряд ли верил в возможность практического осуществления этой идеи и высказал её скорее всего лишь для того, чтобы хоть что-то ответить на просьбу Мао Цзэдуна.
Такая осторожная позиция Сталина объяснялась пониманием того, что США не позволят китайским коммунистам взять Тайвань силой и пустят в ход все имеющиеся у них средства, чтобы помешать этому. В случае военных операций по захвату Тайваня Пекину пришлось бы иметь дело с вооружёнными силами США. Советское правительство считало весьма опасным для КНР затевать военный конфликт из-за Тайваня и не хотело вовлечения в этот конфликт СССР. Такой позиции советское правительство придерживалось и на протяжении последующих лет.
В то время, когда Мао Цзэдун находился в Москве, там шла подготовка к празднованию 70‑летия со дня рождения Сталина. Советские руководители, работники аппарата ЦК и государственных учреждений были заняты приёмом, размещением и обслуживанием многочисленных зарубежных партийных, правительственных и других делегаций, прибывавших в Москву на эти торжества.
В адрес Сталина отовсюду поступали многочисленные поздравления. 19 декабря 1949 г. приветственное послание Сталину направил и Мао Цзэдун. В отличие от посланий других зарубежных партийных и государственных руководителей оно было кратким, составленным в весьма официальном стиле и было заметно «сухим», как говорится, «формально-бюрократическим». Чем это объяснялось, трудно сказать.
21 декабря в Большом театре Союза ССР состоялось торжественное заседание, посвященное 70‑летию Сталина. В президиуме вместе с высшими руководителями СССР присутствовали руководители зарубежных коммунистических партий, среди них был и Мао Цзэдун. Ему было отведено самое почётное место: в первом ряду, рядом со Сталиным.
Торжественное заседание открыл краткой речью председатель Верховного Совета СССР Н. М. Шверник. Из иностранных гостей первое слово для выступления было предоставлено Мао Цзэдуну. Тем самым как бы подчёркивалось особое отношение к нему со стороны Сталина и советского руководства. В отличие от упомянутого поздравительного послания от 19 декабря речь Мао Цзэдуна оказалась яркой и эмоциональной.
21 декабря правительство СССР устроило приём в честь 70‑летия Сталина. На нём были все высшие руководители СССР, другие советские официальные лица, деятели науки и культуры. Присутствовали члены зарубежных делегаций, прибывшие на торжества, а также главы зарубежных посольств и миссий. На приёме особое внимание со стороны Сталина и других советских руководителей вновь было оказано Мао Цзэдуну. После тостов, предложенных Шверником (он открывал приём и руководил им) в честь Сталина, большевистской партии, советского правительства, советского народа последовали тосты в честь руководителей и народов социалистических стран. Первым был предложен Шверником тост «за китайский народ, за присутствующих в зале представителей Китайской Народной Республики, за вождя китайского народа товарища Мао Цзэдуна!
»
Находясь в гостевой резиденции, на даче поблизости от Москвы, Мао Цзэдун поддерживал постоянную шифропереписку с Лю Шаоци, который замещал его в Пекине и информировал о наиболее важных событиях в Китае, а также по вопросам, для решения которых требовалась помощь со стороны СССР. По некоторым из этих вопросов Лю Шаоци непосредственно обращался к Сталину путём шифротелеграмм, направлявшихся через посольство СССР в Пекине. Другие телеграммы адресовывались Мао Цзэдуну с просьбой решить поставленные вопросы со Сталиным. Телеграммы, касавшиеся сферы дипломатии, Мао Цзэдун получал от Чжоу Эньлая.
2 января 1950 г. Мао Цзэдун обратился к Сталину с письмом, в котором сообщил о полученной им телеграмме из Пекина об аварийной ситуации на гидростанции «Сяофынмын» на реке Сунгари в Маньчжурии. Мао Цзэдун писал, что «разрушение этой плотины угрожает лишением электроэнергии для промышленности Маньчжурии, причинением бедствий для населения в несколько миллионов человек, живущих в долине реки Сунгари, а также затоплением городов Харбина и Гирина
». Мао Цзэдун просил «дать указание соответствующим органам о срочном командировании советских специалистов по плотинам и гидростанциям для обследования положения на месте и принятия необходимых мер
».
В тот же день Мао Цзэдун направил Сталину ещё одно письмо с приложением других телеграмм, полученных им из Пекина. Одна из телеграмм Лю Шаоци Сталину касалась содействия СССР в подготовке пилотов для военно-воздушных сил НОА. В связи с тем, что авиашколы уже приступили к лётным занятиям по подготовке пилотов для НОА КНР, Лю Шаоци просил как можно скорее отправить в Китай 93 тыс. тонн высшего и 38 тыс. тонн низшего сорта охтинского бензина, 10 % потребляемого смазочного масла и соответствующее количество других материалов.
Во второй из упомянутых телеграмм содержалось сообщение Пын Дэхуая, командовавшего войсками НОА, захватившими Синьцзян, о положении в этой провинции. Пын Дэхуай писал о реорганизации, «перевоспитании» и настроениях капитулировавших там гоминьдановских войск, о необходимости уделить особое внимание со стороны руководства КПК национальному и религиозному вопросам в Синьцзяне, а также о необходимости крайне осторожного подхода к проведению аграрной реформы, которая должна там проводиться более медленными темпами. Он указывал на крайне тяжёлое экономическое положение в Синьцзяне и на невозможность решения этой проблемы без помощи СССР.
В третьей телеграмме, адресованной Мао Цзэдуну, сообщалось о более чем 16 тыс. корейцах, находившихся в рядах НОА и участвовавших в гражданской войне. В телеграмме предлагалось отправить эти «подготовленные кадры в Корею
» в виде одной дивизии или четырёх-пяти полков регулярных войск.
В четвёртой телеграмме, переданной Мао Цзэдуном Сталину, содержалось сообщение, полученное Пекином от своих разведчиков из Гонконга 21 декабря 1949 г., о том, что возвратившийся из поездки в США руководитель гоминьдановской разведки Чжэн Цзэмин передал Чан Кайши американские требования, которые он должен выполнить, чтобы остаться у власти на Тайване и предотвратить захват Тайваня коммунистами. В этих требованиях указывалось, кто из гоминьдановских деятелей должен возглавить правительство, вооружённые силы, кто должен быть выведен из состава правительства. В них говорилось также, что, по существу, все органы государственного управления и военного командования должны находиться под контролем США, их советников. Только на этих условиях США обещали оказать Чан Кайши соответствующую финансово-экономическую помощь, а в случае, «если Чан Кайши не будет честно выполнять эти условия, то американцы в любое время могут предложить Чан Кайши покинуть Формозу, с тем чтобы самим американцам её оккупировать
».
Пятым документом, направленным Мао Цзэдуном Сталину, была телеграмма Чжоу Эньлая по вопросу о признании Индией правительства Китайской Народной Республики.
6 января по поручению Сталина министр иностранных дел А. Я. Вышинский посетил Мао Цзэдуна и сообщил ему, что советское правительство приняло решение в 5‑дневный срок командировать на один месяц четырёх советских специалистов в Китай. Они должны составить заключение о состоянии сооружений Гиринского гидроузла на реке Сунгари и проект необходимых мероприятий по ликвидации его аварийного состояния. Мао Цзэдун выразил признательность советскому правительству, подчеркнув, что «оказание помощи СССР в этом деле имеет огромное значение для всего народного хозяйства Китая
».
Далее Вышинский передал Мао Цзэдуну ответ советского правительства на просьбу руководства ЦК КПК о поставках горючего и других материалов для военно-воздушных сил, обратив внимание Мао Цзэдуна на то, что «после произведённых нашими специалистами расчётов установлено, что вся потребность в горючем для указанной цели определяется по нормативам Советской Армии в следующих количествах: 13 400 тонн высокооктанового бензина, 5 270 тонн низкооктанового бензина, 1 315 тонн авиамасла и 26 тонн продукта Р‑9
», и что «упомянутое количество горючего будет направлено в Китай в течение первой половины года, начиная с января
».
Мао Цзэдун поблагодарил советское правительство за помощь и сказал, что «наши люди любят заполучить побольше
» и поэтому их надо строго контролировать. Он добавил, что «в деле расходования горючего, действительно, нужно подходить жёстко, так как это будет в интересах самого же Китая, обязанного экономнее расходовать предметы внешней помощи
».
Далее Вышинский поднял вопрос о том, чтобы правительство КНР выступило в Организации Объединённых Наций с требованием лишить гоминьдановского представителя права представлять Китай в Совете Безопасности и передать это право представителю правительства КНР. Вышинский заявил Мао Цзэдуну, что советское правительство готово оказать Пекину в этом твёрдую и самую активную поддержку.
В конце беседы Мао поднял вопрос о советско-китайском договоре 1945 г. При этом он отступил от той позиции, которая была выражена им на переговорах с Микояном в Сибайпо, а также на переговорах делегации ЦК КПК со Сталиным в июне — августе 1949 г. и в беседе Мао Цзэдуна со Сталиным 16 декабря. Напомним, руководство КПК и сам Мао Цзэдун высказали тогда мнение о том, что советско-китайский договор 1945 г. полностью отвечает интересам Китая и что его следует оставить в силе. Теперь, в беседе с Вышинским, Мао Цзэдун выразил несколько иную точку зрения, заявив, что «он всё более приходит к убеждению о необходимости заключения нового договора о дружбе и союзе
» между КНР и СССР. Заключение нового договора между нами, сказал он, вытекает из тех совершенно новых отношений, которые сложились между КНР и СССР после победы народной революции. Пересмотр существующего соглашения, по его мнению, тем более необходим, поскольку два таких важных компонента этого договора, как Япония и Гоминьдан, претерпели кардинальные изменения: Япония перестала существовать в качестве вооружённой силы, а Гоминьдан оказался разбитым. Кроме того, определённая часть китайского народа, сказал Мао Цзэдун, выражает недовольство существующим между Китаем и СССР договором. Поэтому заключение нового договора о дружбе и союзе между КНР и СССР будет в интересах обеих сторон.
Отвечая Мао Цзэдуну, Вышинский отметил, что вопрос о новом договоре ему представляется сложным, так как его подписание или пересмотр существующего договора, внесение в него каких-либо поправок могут быть использованы американцами или англичанами как повод для пересмотра и изменения тех частей договора, изменение которых может нанести ущерб интересам Советского Союза и Китая. Это нежелательно и не должно быть допущено.
Мао Цзэдун на это заметил, что «данное обстоятельство, несомненно, должно быть учтено при определении формулы для решения данного вопроса
».
В беседе Вышинского с Мао Цзэдуном обращает на себя внимание следующее обстоятельство: почему Мао Цзэдун несколько изменил свою позицию в подходе к советско-китайскому договору 1945 г., что в этом договоре, который он и другие руководители КПК высоко оценивали, вдруг обнаружилось негативное для Китая, почему такой важный вопрос Мао Цзэдун предпочёл затронуть в самом конце беседы?
Вероятно, китайская позиция изменилась в результате дискуссий, происходивших по этому вопросу в Пекине, в политбюро ЦК КПК, а также влияния со стороны Чжоу Эньлая. Как показал в дальнейшем ход переговоров по выработке нового советско-китайского договора, в отличие от Мао Цзэдуна и Лю Шаоци Чжоу Эньлай по отдельным аспектам занимал более твёрдую и даже жёсткую позицию. И то, что Мао Цзэдун поднял вопрос о договоре в самом конце беседы, было тоже не случайным. Скорее всего, Мао Цзэдун отнёс этот наиболее важный вопрос на конец беседы по тактическим соображениям: он хотел, по-видимому, придать своему отходу от прежней позиции более «мягкую» форму.
13 января состоялась вторая встреча Вышинского с Мао Цзэдуном. Вышинский информировал Мао Цзэдуна о действиях, предпринятых советской дипломатией по вопросам, касавшимся прав КНР в ООН. Он сказал, что «после сделанного Китайским Народным Правительством заявления о незаконном нахождении гоминьдановского представителя в Совете Безопасности нам удалось добиться того, что во время обсуждения китайского вопроса в Совете Безопасности Цзян Тинфу не будет там председательствовать. Правда, для достижения этой цели советскому представителю пришлось заявить протест против незаконного оставления Цзян Тинфу в Совете Безопасности, покинуть заседание Совета Безопасности и вернуться туда лишь после отказа Цзян Тинфу от председательствования на время обсуждения китайского вопроса
».
Далее Вышинский предложил правительству КНР назначить своего представителя в Совете Безопасности и сообщить об этом председателю Генеральной Ассамблеи и генеральному секретарю ООН, заставив их тем самым перенести вопрос в конкретную плоскость.
Мао Цзэдун ответил, что он в полной мере согласен с этим предложением и его интересует лишь вопрос, как будет выглядеть этот шаг КНР с юридической точки зрения и не придётся ли их представителю при отсутствии соответствующей поддержки в Совете Безопасности сидеть в Пекине.
Вышинский ответил на это, что, несмотря на слабость юридических позиций в этом вопросе, назначение правительством Китая своего представителя в Совете Безопасности, несомненно, имело бы большое политическое значение, так как в настоящее время некоторые члены Совета Безопасности весьма обеспокоены создавшейся обстановкой, поскольку нахождение Цзян Тинфу, этого «гоминьдановского трупа
», в Совете Безопасности является причиной отказа СССР участвовать в работе Совета Безопасности, т. е. фактически ведёт дело к развалу ООН.
Мао Цзэдун вновь повторил, что он в принципе полностью согласен с советским предложением о назначении представителя Народного Китая в Совете Безопасности, но что для окончательного решения вопроса он хотел бы согласовать все стороны этой проблемы с Чжоу Эньлаем, который должен прибыть в Москву 19—20 января.
Далее Мао Цзэдун затронул вопрос об установлении дипломатических отношений с США. Он заявил, что КНР заинтересована в затягивании признания её со стороны США, так как «нам необходимо выиграть время для того, чтобы навести нужный порядок у себя в стране
». В связи с этим, указал Мао Цзэдун, мы намерены провести в Китае два мероприятия: «во-первых, забрать для своих нужд бывшие казармы иностранных войск в Пекине, права на которые в своё время были получены иностранцами по неравноправным договорам, и, во-вторых, конфисковать продовольствие и имущество так называемого управления экономической помощи и сотрудничества в Шанхае, через которое, как известно, американцы помогали Чан Кайши. Проведение этих двух мероприятий дало бы Китаю возможность забрать в числе казарм помещения американского генерального консульства в Пекине и других городах, изгнав оттуда американских консульских представителей, и конфисковать значительные запасы продовольствия указанного управления в Шанхае
». Мы считаем, отметил Мао Цзэдун, что «проведение этих мероприятий вызовет политический подъём у китайского народа и будет способствовать дальнейшей изоляции проамерикански настроенного правого крыла китайской буржуазии
».
15 января Мао Цзэдун прибыл в Ленинград. На вокзале его встречали председатель Ленинградского городского Совета А. А. Кузнецов, секретарь Ленинградского областного комитета КПСС В. М. Андрианов, комендант города Ленинграда генерал-майор В. К. Парамзин. Вокзал был украшен государственными флагами СССР и КНР. В тот же день Мао Цзэдун и сопровождавшие его лица осмотрели город, посетили Эрмитаж, Кировский машиностроительный завод, побывали на переднем крае обороны Ленинграда в годы войны против гитлеровской Германии, а также присутствовали в Театре оперы и балета имени С. М. Кирова. 17 января Мао Цзэдун и сопровождавшие его лица возвратились в Москву.
20 января в Москву прибыл председатель Государственного Совета (премьер-министр), министр иностранных дел КНР Чжоу Эньлай вместе с большой группой официальных лиц и обслуживающего персонала. В состав группы входили заместитель председателя Северо-Восточного (Маньчжурского) правительства Ли Фучунь, министр торговли КНР Е Цзичжуан, начальник отдела СССР и стран Восточной Европы министерства иностранных дел КНР У Сюцюань, заместитель начальника департамента промышленности Северо-Восточного правительства Люй Дун, заместитель начальника департамента торговли Северо-Восточного правительства Чжан Хуадун и др.
Судя по составу группы, сопровождавшей Чжоу Эньлая, направлявшегося в Москву на советско-китайские межгосударственные переговоры, она была сформирована почти целиком из представителей правительственных структур Северо-Востока (Маньчжурии). Это объяснялось тем, что Маньчжурия занимала особое место в отношениях между СССР и Китаем — она была главной базой для подготовки руководящих кадров государственного и в особенности хозяйственного управления Китайской Народной Республики в первые годы после её образования. Ключевые посты в министерствах, ведавших различными отраслями экономики, а также в некоторых других государственно-партийных управленческих структурах заняли коммунисты, находившиеся на руководящей работе в Маньчжурии после освобождения её от японских оккупантов Советской Армией. «Маньчжурскую школу» прошли такие видные деятели КНР, как Гао Ган, Ли Фучунь, Пын Чжэнь, Чэн Юнь и Линь Бяо.
22 января состоялась встреча Сталина с Мао Цзэдуном и Чжоу Эньлаем. С китайской стороны в ней участвовали также Ли Фучунь, Ван Цзясян, Чэнь Бода и Ши Чжэ. С советской стороны — В. М. Молотов, Г. М. Маленков, А. И. Микоян, А. Я. Вышинский, Н. В. Рощин и Н. Т. Федоренко.
Открывая переговоры, Сталин предложил начать с обсуждения вопроса о советско-китайском договоре и соглашениях, касающихся Маньчжурии, заключённых 14 августа 1945 г. с правительством Чан Кайши. Сталин вопреки своей прежней позиции, изложенной на встрече с Мао Цзэдуном 16 декабря 1949 г., когда он высказался в поддержку мнения руководства КПК оставить в силе договорённости, достигнутые между СССР и Китаем 14 августа 1945 г., теперь предложил иной подход к этому вопросу. Он заявил:
«Мы считаем, что эти соглашения надо менять, хотя раньше мы думали, что их можно оставить».
Поясняя перемену своей позиции, Сталин добавил:
«Существующие соглашения, в том числе договор, следует изменить, поскольку в основе договора лежит принцип войны против Японии. Поскольку война окончена и Япония оказалась разбитой, положение изменилось, и теперь договор приобрёл характер анахронизма».
Высказанная Сталиным аргументация являлась, на наш взгляд, малоубедительной. Договор 1945 г. заключался не на период войны с Японией, а на 30‑летний срок, до 1975 г., и предусматривалась его дальнейшая пролонгация. Таким образом отступление Сталина от позиции сохранения договора и соглашений 1945 г. объяснялось не тем, что война с Японией окончилась, а другими, более серьёзными причинами, которые Сталин не стал раскрывать.
После обмена мнениями между Сталиным и Мао Цзэдуном было решено поручить Вышинскому и Чжоу Эньлаю подготовить проект договора, в котором была бы чётко проведена идея о предотвращении повторения агрессии со стороны Японии и идея о тесном политическом, военном, экономическом и культурном сотрудничестве между СССР и КНР.
Касаясь соглашений о КЧЖД и Порт-Артуре, Мао Цзэдун предложил принять в качестве основы принцип о юридическом сохранении в силе этих соглашений, но на деле внести в них изменения. Далее между ним, Чжоу Эньлаем, Сталиным и Молотовым состоялся следующий разговор.
«Сталин: Значит, Вы согласны с тем, чтобы объявить о юридическом сохранении существующего соглашения, но прибегнуть к соответствующим фактическим изменениям.
Мао Цзэдун: Мы должны исходить из учёта интересов двух сторон — как Китая, так и Советского Союза.
Сталин: Верно. Мы считаем, что договор о Порт-Артуре является неравноправным.
Мао Цзэдун: Но ведь изменение этого соглашения задевает решения Ялтинской Конференции?!
Сталин: Верно, задевает — ну и чёрт с ним! Раз мы стали на позицию изменения договора, значит, нужно идти до конца. Правда, это сопряжено с некоторыми неудобствами для нас, и нам придётся вести борьбу против американцев. Но мы уже с этим примирились.
Мао Цзэдун: В этом вопросе нас беспокоит лишь то, что это может повлечь нежелательные последствия для СССР.
Сталин: Как известно, мы заключили существующий договор во время войны с Японией. Мы не знали, что может выкинуть Чан Кайши. Мы исходили из того, что нахождение наших войск в Порт-Артуре будет в интересах Советского Союза и дела демократии в Китае.
Мао Цзэдун: Вопрос ясен.
Сталин: В таком случае, не считаете ли Вы приемлемым такой вариант: объявить, что соглашение о Порт-Артуре остаётся в силе до подписания мирного договора с Японией, после чего русские войска выводятся из Порт-Артура. Или может быть предложен другой вариант: объявить о сохранении существующего соглашения, а практически вывести войска из Порт-Артура. Какой из этих вариантов больше подходит, тот и примем. Мы согласны на любой вариант.
Мао Цзэдун: Этот вопрос следует обдумать. Мы согласны с мнением товарища Сталина и считаем, что соглашение о Порт-Артуре должно остаться в силе до подписания мирного договора с Японией, после подписания договор теряет силу и советские войска уходят. Однако, нам хотелось бы, чтобы в Порт-Артуре осуществлялось наше военное сотрудничество и мы могли бы обучать свой военно-морской флот.
Сталин: Вопрос о Дальнем. Мы не намерены обеспечивать каких-либо прав Советского Союза в Дальнем.
Мао Цзэдун: Будет ли Дальний сохранён как свободный порт?
Сталин: Поскольку мы отказываемся от своих прав, Китай сам должен решить вопрос о Дальнем: будет ли он свободным портом или нет. В своё время Рузвельт настаивал на том, чтобы Дальний был свободным портом.
Мао Цзэдун: Таким образом, сохранение свободного порта было бы в интересах Америки и Англии?
Сталин: Конечно. Получается: дом с открытыми воротами.
Мао Цзэдун: Мы считаем, что Порт-Артур мог бы быть базой для нашего военного сотрудничества, а Дальний — для советско-китайского экономического сотрудничества. В Дальнем имеется целый ряд предприятий, которые мы не в силах эксплуатировать без помощи со стороны Советского Союза. Нам следует развивать там экономическое сотрудничество.
Сталин: Значит, соглашение о Порт-Артуре остаётся в силе до подписания мирного договора с Японией. После заключения мирного договора существующее соглашение теряет свою силу и русские выводят свои войска. Так ли я резюмировал высказанные мысли?
Мао Цзэдун: Такова основа, и именно это мы хотели бы изложить в новом договоре.
Сталин: Продолжим обсуждение вопроса о КЧЖД. Скажите нам, как полагается коммунистам, какие у Вас имеются сомнения?
Мао Цзэдун: Основная мысль сводится к тому, чтобы в новом соглашении было отмечено, что совместная эксплуатация и управление будут продолжаться и впредь. Однако, что касается управления, то основную роль в нём должна играть китайская сторона. Далее, необходимо изучить вопрос о сокращении срока действия соглашения и определить размер капиталовложений сторон.
Молотов: При условии сотрудничества и совместного управления какого-либо предприятия двумя заинтересованными государствами обычно предусматривается паритетное участие сторон, а также чередование в замещении руководящих должностей. В старом соглашении управление дорогой принадлежало советской стороне, однако в дальнейшем мы считаем необходимым предусмотреть чередование в осуществлении функций управления. Скажем, такое чередование могло бы осуществляться через каждые два-три года.
Чжоу Эньлай: Наши товарищи считают, что существующее правление КЧЖД и должность управляющего следует устранить и вместо них создать комиссию по управлению дорогой, причём предусмотреть, что должности председателя комиссии и управляющего будут замещаться китайцами. Однако в связи с предложением товарища Молотова над этим вопросом следует подумать.
Сталин: Если речь идёт о совместном управлении, то нужно, чтобы замещение руководящих должностей менялось. Так было бы логичнее. Что касается срока действия соглашения, то мы не возражаем против его сокращения.
Чжоу Эньлай: Не следует ли изменить соотношение капиталовложений сторон и вместо существующих паритетных условий увеличить капиталовложения китайской стороны до 51 %?
Молотов: Это пошло бы вразрез с существующим принципом о паритетности сторон.
Сталин: Мы, действительно, имеем соглашения с чехами и болгарами, по которым предусматривается паритетность, равенство сторон. Уж если совместное управление, то пусть будет и равное участие.
Мао Цзэдун: Нужно дополнительно изучить этот вопрос с таким расчётом, чтобы были обеспечены интересы обеих сторон».
На этом закончился предварительный обмен мнениями по вопросам, касавшимся договора и соглашений по Маньчжурии на высшем уровне. Выработка новых договорённостей была передана министрам иностранных дел. Предварительный обмен мнениями показал наличие расхождений в позициях сторон по некоторым важным принципиальным вопросам. Причём эти расхождения явно проявились с приездом в Москву и включением в переговорный процесс Чжоу Эньлая. Его подход к обсуждавшимся вопросам мало чем отличался от позиции, которую занимал Сун Цзывэнь на переговорах о советско-китайском договоре и соглашениях по Маньчжурии 1945 г. Разница состояла в том, что на переговорах с правительством Чан Кайши советское правительство очень твёрдо отстаивало свою позицию, связанную с защитой государственных интересов СССР, имея в виду, в частности, огромные по тем временам капиталовложения, внесённые Россией в Маньчжурии. В переговорах же с Мао Цзэдуном Сталин проявил беспрецедентную в международных отношениях уступчивость и встал на путь отказа от всего, что СССР получил по договору 1945 г. и по предыдущим соглашениям, начиная с русско-китайского договора 1896 г. о союзе и постройке Китайской Маньчжурской железной дороги.
Затем Сталин предложил обсудить соглашение о советском 300‑миллионном кредите, который был предоставлен во время пребывания в Москве делегации ЦК КПК во главе с Лю Шаоци в июне — августе 1949 г. Условия кредитного соглашения, по признанию Мао Цзэдуна, были «весьма благоприятны для Китая
», так как китайцы платили «всего лишь один процент
». На это Сталин заметил: «Мы исходим из того, что китайская экономика крайне разорена
», хотя по соглашениям со странами народной демократии Восточной Европы предусматривалось получение двух процентов.
На переговорах со Сталиным Мао Цзэдун обратился с просьбами о предоставлении пшеницы и текстиля для провинции Синьцзян, а также о продлении срока пребывания в КНР советского авиационного полка, который был направлен в распоряжение ЦК КПК для оказания помощи в осуществлении военных операций против гоминьдановских войск и освобождению контролировавшихся гоминьдановцами районов, труднодоступных для коммунистических войск. Одним из наиболее сложных для командования НОА в этом отношении регионов был Синьцзян. Путь туда, протяжённостью свыше тысячи километров, лежал через почти безлюдную пустынную территорию, где не было ни питьевой воды, ни продовольствия, ни дорог, ни необходимых транспортных средств. Преодолеть такой путь пешим порядком, без продовольствия, без источников питьевой воды, под палящим солнцем войска НОА не могли. Поэтому руководство КПК обратилось за помощью к Сталину. Эта просьба была вызвана также тем, что в дополнение к упомянутым выше трудностям путь в Синьцзян контролировался войсками мусульманских феодалов-милитаристов, генералов Ма (Ма Буфена, Ма Буцина и Ма Хункуя), в руках которых находилась граничащая с Синьцзяном обширная провинция Цинхай. Генералы Ма занимали сепаратистскую позицию в отношении правительства Чан Кайши и враждебно относились к коммунистам.
Сталин предоставил китайским коммунистам полк советских военно-воздушных сил, который помог командованию НОА в переброске в Синьцзян коммунистических войск и обеспечил их прикрытие от войск генералов Ма.
Мао Цзэдун просил оказать такую же помощь в осуществлении других военных операций, в особенности в подчинении Пекину Тибета.
Мао Цзэдун сказал:
«Я хотел бы отметить, что присланный Вами в Китай авиаполк оказал нам большую помощь. Им перевезено около 10 тыс. человек. Разрешите мне поблагодарить Вас, товарищ Сталин, за помощь и просить Вас задержать этот авиаполк в Китае с тем, чтобы он оказал помощь в переброске продовольствия войскам Лю Бочана, готовящимся к наступлению в Тибет».
Сталин:
«Это хорошо, что Вы готовитесь к наступлению. Тибетцев надо взять в руки. По поводу авиаполка поговорим с военными и дадим Вам ответ».
По вопросу о поставках в Синьцзян пшеницы и текстиля Сталин также выразил готовность оказать помощь. Для этого нужно, сказал он, чтобы «Пекин предоставил соответствующие заявки в цифрах
», и далее он поинтересовался, «будем ли мы заключать отдельные договора с Синьцзяном, с Маньчжурией и другими провинциями, как это было раньше, или единый договор с центром?
». «Мы
,— сказал Мао Цзэдун,— хотели бы иметь единый договор с центром. Но Синьцзян, в свою очередь, может иметь отдельное соглашение
». На вопрос Сталина, а как быть с Маньчжурией, Чжоу Эньлай ответил, что «для Маньчжурии заключение отдельного соглашения исключается, так как договор с центром в основном обеспечивается за счёт поставок из Маньчжурии
». «Нам
,— сказал Сталин,— хотелось бы, чтобы соглашения с Синьцзяном или Маньчжурией утверждались центральным правительством и чтобы центральное правительство несло за них ответственность
».
Ранее в своих отношениях с гоминьдановским правительством Москва предпочитала иметь дело только с местным правительством Синьцзяна и напрямую заключала с ним торгово-экономические и другие соглашения, действуя в обход и через голову китайского центрального правительства. Попытка Чан Кайши установить такой порядок, который предложили теперь Мао Цзэдун и Чжоу Эньлай, привела к тому, что советское правительство порвало в одностороннем порядке все деловые связи с Синьцзяном и поставило эту граничащую с СССР провинцию в условия экономической блокады, продолжавшуюся до прихода к власти в Китае коммунистов.
Вышинскому, Микояну, Чжоу Эньлаю и Ли Фучуню поручалась подготовка советско-китайского договора и соглашений. Рабочие группы: одна под руководством Чжоу Эньлая, другая — Вышинского, приступили к работе над проектами этих документов. Процесс выработки договорённостей проходил значительно легче, чем это имело место на советско-китайских переговорах в июле-августе 1945 г. Однако и на этот раз не обошлось без трудностей, возникших из-за расхождения сторон по некоторым вопросам. Один из них касался перевозок советских войск и военных грузов из СССР в Порт-Артур, на военно-морскую базу, по КЧЖД. Чжоу Эньлай возразил против предоставления СССР такого права, рассматривая это как нарушение китайского суверенитета. Он соглашался пойти на это только при условии принятия советской стороной встречного требования: разрешить перевозку китайских войск через советскую территорию из Маньчжурии в Синьцзян, используя советские железные дороги. Чжоу Эньлай мотивировал это требование необходимостью соблюдения принципа равенства: если, мол, советские войска будут перевозиться через китайскую территорию, то правительство КНР должно иметь аналогичное право перевозить свои войска через территорию СССР.
Советская сторона восприняла это требование как надуманное, необоснованное. Во-первых, в переброске китайских войск из Маньчжурии в Синьцзян не было никакой практической необходимости, так как это можно было осуществлять по территории самого Китая. Что же касается советских войск, то наземным транспортом их можно было перевезти в Порт-Артур только через китайскую территорию — Маньчжурию. Существовал другой путь — морской, но он был менее удобен во многих отношениях, а в случае осложнения международных отношений на Дальнем Востоке и в Тихоокеанском регионе — менее безопасным. Во-вторых, между СССР и КНР заключался договор о союзе, а между союзниками вопросы решаются прежде всего исходя из общих для них, взаимных интересов. Именно этой взаимосвязи интересов отвечало предоставление советскому правительству права переброски своих войск в Порт-Артур по КЧЖД, через китайскую территорию (Маньчжурию), поскольку порт-артурская военно-морская база служила для защиты обоих государств — СССР и Китая — от внешней агрессии.
В ходе переговоров возникли расхождения сторон по вопросам, касавшимся управления совместно используемыми предприятиями и другими объектами, распределения долей капиталовложений сторон, объёма поставок из Китая в СССР некоторых материалов — вольфрама, олова, сурьмы. Китайская сторона заявляла, что она не в состоянии самостоятельно эксплуатировать ряд промышленных и хозяйственных предприятий без помощи СССР, но вместе с тем требовала, чтобы в управлении смешанными компаниями, такими, как КЧЖД, судоремонтный завод в Дальнем и другие объекты, основная роль принадлежала китайцам, а пакет акций предлагала распределить в пропорции 51 % : 49 % в пользу Китая. Китайская сторона предлагала также сократить предусмотренные соглашениями от 14 августа 1945 г. сроки совместного использования КЧЖД и других объектов. Советская сторона пошла навстречу пожеланиям китайской стороны по всем вопросам. Более того, советское правительство по своей инициативе высказалось за отказ в пользу Китая от договорённостей 1945 г. по некоторым важным вопросам, например, советское правительство ещё до образования КНР приняло решение о выводе советских войск из военно-морской базы Порт-Артур, о чём было сообщено руководству ЦК КПК Микояном во время его поездки с секретной миссией в Сибайпо.
Обе делегации вели усиленные переговоры по выработке текстов нового советско-китайского договора и соглашений, в том числе соглашения о взаимных поставках товаров. С советской стороны имелись в виду поставки в КНР в основном машинного оборудования и материалов, предназначавшихся для восстановления, реконструкции и строительства промышленных предприятий и других наиболее важных для Китая объектов. Обсуждались и согласовывались вопросы командирования в КНР советских специалистов, а также условия оплаты их работы. Советская сторона внесла предложение о запрещении концессий третьих стран на территории Маньчжурии и Синьцзяна. Китайская сторона выдвинула в связи с этим встречное предложение: о запрещении концессий третьих стран на советской территории — в Дальневосточном крае и в среднеазиатских республиках.
Через несколько дней все документы были готовы, и 14 февраля 1950 г. в Кремле состоялось подписание Договора о дружбе, союзе и взаимопомощи между СССР и КНР, а также Соглашения о Китайской Чанчуньской железной дороге, Порт-Артуре и Дальнем, Соглашения о предоставлении Советским Союзом кредита правительству КНР. Одновременно с подписанием договора и упомянутых соглашений Вышинский и Чжоу Эньлай обменялись нотами о том, что заключённые 14 августа 1945 г. между Китаем и СССР договор и соглашения потеряли силу, и о том, что «оба правительства констатируют полную обеспеченность независимого положения Монгольской Народной Республики в результате референдума 1945 г. и установления дипломатических отношений с ней Китайской Народной Республики
».
Помимо вышеуказанных документов в Москве был подписан секретный документ — «Дополнительное Соглашение» — о «непредоставлении права на концессии» и о «недопущении деятельности промышленных, финансовых, торговых и иных предприятий, капитала третьих стран или граждан этих стран
» на территории Дальневосточного края и среднеазиатских республик СССР, а также на территории Маньчжурии и Синьцзяна.
При подписании договора и соглашений Вышинский и Чжоу Эньлай выразили глубокое удовлетворение достигнутыми договорённостями. Чувства удовлетворения руководства КПК результатами переговоров были вполне понятны: Мао Цзэдун получал от СССР всё, что он хотел получить для закрепления вырванной им из рук Гоминьдана власти в Китае. Советское правительство, Сталин добровольно и даже по своей инициативе отдавали всё, что СССР получил по договору и соглашениям, подписанным с правительством Китайской Республики 14 августа 1945 г., имея в виду огромные имущественные права России, которые были отняты Японией и за возвращение которых СССР вступил в войну против Японии в августе 1945 г. Какие были основания для выражения чувств удовлетворения итогами переговоров с Мао Цзэдуном у советского руководства — это особый вопрос, которого мы коснёмся позже. А сейчас отметим хронику событий, последовавших за подписанием договора и соглашений.
14 февраля, после подписания договора и соглашений, посол КНР Ван Цзясян устроил приём в честь Мао Цзэдуна и Чжоу Эньлая. С советской стороны на приёме были Н. М. Шверник, В. М. Молотов, Г. М. Маленков, Л. П. Берия, К. Е. Ворошилов, представители различных министерств и ведомств. Присутствовали также послы социалистических стран. Сталина на этом приёме не было.
16 февраля Сталин дал обед в честь Мао Цзэдуна и Чжоу Эньлая. Это был прощальный обед. Он проходил в весьма тёплой, дружественной обстановке. На обеде вместе с Мао Цзэдуном и Чжоу Эньлаем с китайской стороны присутствовали заместитель председателя Маньчжурского регионального правительства Ли Фучунь, посол КНР в СССР Ван Цзясян, профессор Чэнь Бода, руководитель правительства провинции Синьцзян С. Азизов, и другие лица, сопровождавшие Мао Цзэдуна и Чжоу Эньлая в их поездке в СССР.
С советской стороны на обеде у Сталина были Н. М. Шверник, В. М. Молотов, Г. М. Маленков, Л. П. Берия, К. Е. Ворошилов, А. И. Микоян, Н. С. Хрущёв, Н. А. Булганин, Л. М. Каганович, А. Я. Вышинский, маршал А. М. Василевский, А. А. Громыко, В. А. Зорин, Н. В. Рощин, генерал армии С. М. Штеменко, генерал-полковник П. Ф. Жигарев, адмирал И. С. Юмашев, торговый представитель СССР в КНР В. П. Мигунов и другие официальные лица. Присутствовали также послы социалистических стран Восточной Европы.
17 февраля Мао Цзэдун и Чжоу Эньлай покинули Москву. На Ярославском вокзале, откуда отправлялся специальный поезд в Пекин, высоких гостей провожали Молотов, Микоян, Булганин, Вышинский и другие официальные лица. На вокзале Мао Цзэдун выступил с прощальной речью, в которой в частности заявил:
«Дорогие товарищи и друзья!
Будучи в Москве, я и тов. Чжоу Эньлай, а также члены китайской делегации встречались с Генералиссимусом Сталиным и ответственными товарищами из Советского правительства. Трудно передать словами то полное взаимопонимание и глубокую дружбу, которые созданы на основе коренных интересов наших великих народов Китая и Советского Союза. Все видят, что сплочение великих китайского и советского народов, закреплённое договором, является долговечным, нерушимым и непоколебимым. Это сплочение неизбежно повлияет не только на процветание великих держав Китая и Советского Союза, а также на будущность всего человечества и поведёт к победе справедливости и мира во всём мире».
Так закончился визит Мао Цзэдуна в СССР, который он так стремился посетить начиная с 1947 г. Тогда он не мог осуществить это потому, что его приезд в Советский Союз в качестве партизанского лидера, которым он являлся до образования КНР, мог создать для советского правительства массу политических неудобств. Теперь он посетил СССР как глава официального правительства провозглашённой Китайской Народной Республики. Каковы же итоги его визита в Москву? Как отмечалось выше, между договорами и соглашениями 1945 г., от которых отказалось советское правительство, и договорённостями, достигнутыми во время визита Мао Цзэдуна в Москву, были большие различия.
Договор о дружбе и союзе от 14 августа 1945 г. заключался на 30 лет. Предусматривалось, что если за год до истечения этого срока одна из сторон не заявит о своём желании его денонсировать, то он останется в силе «на неограниченный срок
». Договор от 14 февраля 1950 г. тоже заключался на 30 лет. Предусматривалось, что если одна из сторон за один год до истечения этого срока не заявит о своём желании его денонсировать, то он остаётся в силе на пять лет и в соответствии с этим правилом пролонгируется.
Соглашение 1945 г. о КЧЖД заключалось на 30 лет. По истечении этого срока дорога со всем принадлежащим ей имуществом безвозмездно передавалась китайскому правительству. Председателем правления КЧЖД назначался гражданин Китая, заместителем председателя — советский гражданин. Управляющим дорогой назначался гражданин СССР, заместителем управляющего — гражданин Китая. Поскольку административно-распорядительные функции принадлежали управляющему дорогой, то это, по существу, означало передачу контроля над дорогой и её эксплуатацией в руки советской стороны.
Соглашение же 1950 г. о КЧЖД предусматривало совместное использование дороги практически лишь в течение двух лет. Советское правительство обязалось безвозмездно передать правительству КНР все свои права по совместному управлению дорогой со всем принадлежащим ей имуществом непосредственно после заключения мирного договора с Японией, однако не позже конца 1952 г. Безвозмездно передававшееся китайской стороне имущество было огромным. Оно включало в себя паровозоремонтные, вагоноремонтные заводы, лесопромышленные предприятия, обеспечивавшие производство шпал и лесоматериалов для железнодорожных вагонов; угледобывающие предприятия и многие другие объекты, обслуживавшие железную дорогу, в которые Россией были вложены большие финансовые и материальные средства.
Кроме того, по соглашению 1950 г. до осуществления упомянутой выше передачи существенно менялось положение, касавшееся управления дорогой. Вводился новый принцип замещения должностей, устанавливался порядок чередования таких ключевых должностей, как председатель правления и управляющий дорогой. Это резко ограничивало права по управлению и эксплуатации дороги и обслуживавшего её промышленно-хозяйственного комплекса, которыми пользовалась советская сторона по соглашению 1945 г.
Относительно Порт-Артура соглашение 1945 г. формально закрепляло совместное использование военно-морской базы военными кораблями и торговыми судами СССР и Китая. Но только формально. Оборона военно-морской базы, по соглашению, вверялась правительству СССР. Это позволило советской стороне в одностороннем порядке установить свой полный контроль и лишить права захода в зону порт-артурской базы военных и торговых кораблей Китая (заход кораблей других стран, кроме СССР и Китая, соглашением официально запрещался).
Для управления военно-морской базой соглашением 1945 г. создавалась смешанная советско-китайская военная комиссия в составе трёх представителей от СССР и двух — от Китая. Председателем комиссии назначался представитель СССР, а его заместителем — китайский гражданин. Фактически же смешанная комиссия не функционировала даже в ограниченном для Китая составе. Управление базой и всей военной зоной Порт-Артура целиком находилось в руках советского военного командования. Правительству Чан Кайши это, естественно, не нравилось, но оно мирилось, так как не хотело ссориться с Москвой.
По соглашению 1945 г. советские войска могли находиться в Порт-Артуре в течение 30 лет. По истечении этого срока они выводились с территории Китая, а всё оборудование военно-морской базы и общественное имущество, включая жилые помещения, различные объекты сферы бытового и культурного обслуживания личного состава военного гарнизона, безвозмездно передавались в собственность китайского правительства.
В соответствии с новым соглашением 1950 г. о Порт-Артуре советские войска подлежали эвакуации из Маньчжурии (из военно-морской базы), а все сооружения, построенные на территории базы, передавались правительству КНР после заключения мирного договора с Японией, однако не позже 1952 г. При этом предусматривалось возмещение правительством КНР Советскому Союзу затрат по восстановлению и строительству сооружений, осуществлённых советской стороной с 1945 г. Таким образом, не компенсировались затраты на строительство сооружений, произведённых до 1945 г., начиная с заключения в 1896 г. русско-китайского договора о союзе и строительстве Китайской Восточной железной дороги. А затраты России, включая строительство города Порт-Артура и его инфраструктуры, были колоссальными.
До передачи военно-морской базы правительству КНР советское командование лишалось монопольного права управления базой, которое было предоставлено СССР правительством Чан Кайши. В отличие от ранее установленного порядка формирования китайско-советской объединённой военной комиссии, при котором большинство членов комиссии по военным делам в районе Порт-Артура и председатель комиссии назначались из советских граждан, теперь, по соглашению 1950 г., в комиссию должно было входить равное число представителей от обеих сторон, а председательствование быть поочередным.
Большие различия между договорами 1945 и 1950 г. имелись и в отношении порта Дальнего. Соглашением 1945 г. он объявлялся свободным портом, открытым для торговли и судоходства всех стран. Китайское правительство выделяло Советскому Союзу в аренду причалы и складские помещения на основе отдельного соглашения. Администрация в Дальнем принадлежала Китаю, начальником же порта назначался гражданин СССР. Товары, поступавшие из-за границы в порт Дальний и следовавшие в СССР по КЧЖД и в обратном направлении, освобождались от таможенных пошлин.
Теперь вопрос о порте Дальний, о его статусе должен был быть подвергнут рассмотрению после заключения мирного договора с Японией. Другими словами, этот вопрос оставался открытым. Такая осторожная позиция была вызвана тем, что статус Дальнего как свободного порта был определён решением Крымской конференции и зафиксирован в Ялтинском соглашении, подписанном главами правительств СССР. США и Великобритании. Поэтому Москва и Пекин нарушать это соглашение не решались, опасаясь негативной реакции со стороны США и Великобритании.
Соглашением 1950 г. предусматривалось, что всё имеющееся в Дальнем имущество, находившееся во владении или в аренде у советской стороны, должно было быть передано правительству КНР и эта передача должна была быть осуществлена в течение 1950 г. Так же, как и в Порт-Артуре, в имущество, безвозмездно передававшееся правительству КНР, были вложены огромные финансовые и материальные затраты России.
Как известно, правительства США, Великобритании и Китая неоднократно обращались к советскому правительству с просьбой о вступлении СССР в войну против Японии, и оно пошло навстречу их пожеланиям, но выдвинуло ряд условий. Эти советские требования были приняты и зафиксированы в Ялтинском соглашении, в советско-китайском договоре и в соглашениях, подписанных 14 августа 1945 г. В них предусматривалось восстановление всех имущественных прав, которые принадлежали России в Маньчжурии и были утрачены в результате японской агрессии. Сталин, обосновывая свои требования, указывал на то, что между СССР и Японией в 1941 г. был подписан пакт о нейтралитете и поэтому советскому народу будет непонятно, ради чего СССР должен вступать в войну против Японии и приносить в жертву жизни своих солдат.
И вот теперь, когда советские солдаты выполнили свой воинский долг и война с Японией окончена, а все утерянные Россией и СССР территориальные и имущественные права восстановлены, Сталин на переговорах с Мао Цзэдуном решил не по просьбе Мао Цзэдуна, а по своей инициативе отказаться от упомянутых выше имущественных прав в Маньчжурии и от весьма важных стратегических позиций, которые были предоставлены СССР по договору и соглашениям, заключённым 14 августа с правительством Китайской Республики.
Попытаемся разобраться, что же побудило Сталина проявить такую беспрецедентную в международных отношениях щедрость. На политику Кремля в отношении гоминьдановского правительства после капитуляции Японии оказали влияние не «антисоветская политика
» Чан Кайши, как это утверждалось в советских версиях, а совсем иные факторы. Отметим наиболее важные из них. Во-первых, негативную роль сыграло обострение международной обстановки в те годы, вызванное в значительной мере тем, что США овладели ядерным оружием, пустили его в ход против Японии и создали угрозу для безопасности других стран. Во-вторых, между странами-победителями во второй мировой войне развернулась борьба за то, чтобы из победы над Германией и Японией извлечь для себя наибольшую пользу. Всюду, куда вступали войска той или другой страны-победительницы, создавались режимы, более всего отвечавшие интересам этой страны-победительницы. Так поступали США и Великобритания. К закреплению своих позиций на занятых советскими войсками территориях стремилось и советское правительство. Эту цель преследовала политика Кремля в Маньчжурии после освобождения её Советской Армией.
На послевоенную внешнюю политику СССР в отношении Китая большое влияние оказала поднявшаяся в результате разгрома фашистской Германии и милитаристской Японии волна национально-освободительных движений в Азии, и в частности на Дальнем Востоке. Сталин исходил из того, что в случае прихода КПК к власти в Китае коммунистический Китай станет оплотом национально-освободительного движения народов колониальных и зависимых стран. Кроме того, установление США в одностороннем порядке собственного контроля над Японией, находившейся в непосредственной близости от границ СССР, не могло также не волновать Сталина и требовало, естественно, от СССР принятия мер, направленных на укрепление безопасности СССР на Дальнем Востоке.
Опираясь на Ялтинское соглашение и советско-китайский договор от 14 августа 1945 г., Сталин решил превратить Маньчжурию в надёжную опорную базу Советского Союза у его дальневосточных рубежей. Но Сталин опасался, что в силу ряда причин, в частности из-за тяжёлого экономического положения Китая, внутриполитического кризиса и т. д. гоминьдановское правительство пойдёт на тесное сближение с США, откроет Китай, в особенности Маньчжурию, для широкой американской экспансии под флагом «политики открытых дверей». Как говорил Сталин, он не знал, «что может выкинуть Чан Кайши
». Чтобы гарантировать прочность позиции СССР в Маньчжурии, Сталин решил передать её в руки китайских коммунистов, которых он считал более надёжными союзниками. Сталин помог коммунистам создать в Маньчжурии крупные вооружённые силы, оказал им военно-техническую, финансово-экономическую и другую помощь. Опираясь на Маньчжурию и широкомасштабную советскую помощь, КПК развернула вооружённую борьбу за захват власти во всей стране и за свержение официально признанного Москвой китайского правительства.
Для того чтобы получить от СССР всю необходимую помощь для победы, Мао Цзэдун и ЦК КПК настойчиво внушали Сталину мысль о том, что коммунисты, придя к власти, установят «вечную и нерушимую дружбу
» между Китаем и СССР. Они постоянно предлагали, чтобы Сталин, ЦК ВКП(б) давали им свои указания по всем вопросам внутренней и внешней политики, и твёрдо заверяли, что во всей своей деятельности КПК будет руководствоваться указаниями Москвы. Например, в докладе от 4 июня 1949 г., представленном на рассмотрение политбюро ЦК ВКП(б) делегацией ЦК КПК во главе с секретарём ЦК КПК Лю Шаоци, посетившей Москву в июне — августе 1949 г., отмечалось:
«По вопросу об отношениях между ВКП(б) и КПК Мао Цзэдун и ЦК КПК считают: ВКП(б) является главным штабом международного коммунистического и рабочего движения, а КПК представляет лишь только штаб одного направления. Интересы части должны быть подчинены интернациональным интересам, а поэтому КПК подчиняется решениям ВКП(б) ‹…›. Если по некоторым вопросам между КПК и ВКП(б) возникнут разногласия, то КПК, изложив свою точку зрения, подчинится и решительно будет выполнять решения ВКП(б)».
На полях этого доклада Сталин написал «Нет!
», выразив таким образом своё несогласие с предлагаемым принципом «верховенства» Кремля. Тем не менее подобные клятвенные заверения Мао Цзэдуна и других руководителей КПК, по-видимому, убедили Сталина в том, что у СССР не будет никаких проблем в отношениях с Китаем, если к власти там придут коммунисты. И чтобы КПК действительно стояла на позициях «вечной и нерушимой дружбы
» с СССР, как об этом неоднократно заявляли Мао Цзэдун и другие руководители КПК, Сталин решил в дополнение к помощи, предоставленной КПК для завоевания победы над Гоминьданом, преподнести в дар все имущественные и другие права, полученные ранее Россией и СССР в Маньчжурии по договорам и соглашениям с Китаем, которые руководителями КПК были признаны вполне равноправными. Как показали вскоре дальнейшие события, заверения Мао Цзэдуна носили конъюнктурный характер. Надежды Сталина на «вечную и нерушимую дружбу
» между СССР и КНР не оправдались.
Визит Мао Цзэдуна в Москву и подписание 14 февраля 1950 г. нового договора и соглашений подвели окончательную черту под всей предшествующей историей отношений между СССР и Китаем и чётко обозначили стартовый рубеж, с которого начался новый этап в советско-китайских отношениях.
Примечания