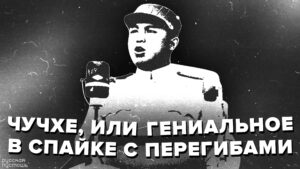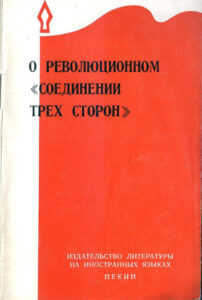Этот материал я посвящаю столетию Советского Союза, посвящаю великой коммуне, которая бросила вызов всему буржуазному миру, которая смогла колоссально поднять благосостояние человека труда, которая заставила богатства служить всему обществу, которая смогла разгромить фашизм и мировой империализм.
Однако про достижения страны Советов за эти полтора месяца напишут ещё очень много. Я же предлагаю проанализировать субъективные ошибки российского пролетариата, вызванные объективными материальными предпосылками, громадными промахами в культурной работе и неизбежными историческими событиями, которые привели к временному поражению системы социализма и реставрации в СССР государственного капитализма диктаторского типа.
ⅩⅬ лет диктатуры пролетариата — это невероятно интересная эпоха. Исследовать её победы — крайне важно. Исследовать её поражения и её кончину — также остро нужно, если мы хотим, чтобы следующая Российская Коммуна просуществовала не чуть меньше полвека, а вечность.
Если же кто не согласен с моей трактовкой советского опыта, то предлагаю ему вступить в публичную полемику, а не говорить об этом за спиной или в узких кружках и беседах. Так мы гораздо скорее вместе сможем выработать истину.
Путь от капитализма к коммунизму невероятно тяжёл и труден. История доказала, что его невозможно организовать через реализацию взаимных уступок и соглашений между буржуазией и пролетариатом, через проведение постепенных и планомерных социальных реформ, обеспечивающих врастание более передового механизма в умирающий. Невозможно построить «царство свободы» и путём убеждения правящих классов использовать более гуманные формы управления. Нельзя осуществить смену экономической формации и через победу на парламентских выборах, через большинство на всеобщем плебисците.
Не работают в нашу эпоху и компромиссные «славные революции», и государственные перевороты, совершенные узкой группой заговорщиков, и радикальные попытки обеспечить преобразование страны сверху, и идеи тайных обществ, и прочие разнообразные ухищрения. На протяжении нескольких столетий мысль человеческая, прибегавшая к подобным решениям, всегда терпела крах.
Если буржуазный строй и мог заключить какое-то соглашение с силами феодализма, подкупить его и мирно перетянуть на свою сторону, то коммунистические силы так сделать никогда не смогут. Если рабовладельческая формация проиграла на Руси боярскому землевладению в довольно-таки мирном соревновании, то рабочие и капиталисты подобной честной гонки организовать никогда не смогут.
Но почему наша эпоха столь резко отличается от других переходных эпох? Почему практически все способы сломать старое, придуманные человеческим гением, в ⅩⅨ—ⅩⅩⅠ веках перестали работать?
Ответ заключается в том, что структурные изменения в обществе прошлого приводили к тому, что один эксплуататорский класс сменялся другим — рабовладельцы и латифундисты сменялись баронами и герцогами, бароны и герцоги сменялись банкирами и заводовладельцами. Ныне задача поменялась. Вопрос стоит не о замене одной более дикой системы угнетения на более гуманную — вопрос стоит о ликвидации на земле всяческих форм эксплуатации и организации нового коллективного строя, где каждый мог бы с гордостью сказать: «во власти всех своей зрю долю, свою творю, творя всех волю
».
Коммунизм представляет собой общество человеческого всеединства, в котором свободное индивидуальное развитие каждого есть условие свободного развития всех. Коммунизм — это отсутствие классовых противоречий и государства, исторически возникающего на почве первых социально-экономических конфликтов. Коммунизм — это общественная собственность на средства производства, которые больше никто не использует ради того, чтобы обогащаться на других. Коммунизм — это ликвидация противоречия между физическим и умственным трудом в пользу последнего, поскольку вся грязная и отвратительная работа будет свалена на плечи бесправных механических машин, безропотных исполнителей любого приказа человека. Коммунизм — это освобождение человека из-под гнёта необходимости и его переход в царство свободы, в котором он сможет в полной мере развить все свои таланты и задатки, беспрепятственно упражняясь в спорте, науке и искусстве.
Однако коммунизм — это не какой-то вечный рай, рисуемый религиозными проповедниками, это социум, в котором господствует вечная борьба человека с природой, в ходе которой гражданин этой великой коммуны обуздывает с помощью открытия и применения новых законов всю вселенную, заставляя её служить человеку. В этой гармоничной битве и обретает наш индивид подлинное счастье, находит истинный смысл жизни — её максимальное расширение.
Уже из этого описания становится понятно, что одним щелчком пальца из капитализма, питающегося личной наживой, эгоизмом, жадностью, аморальностью и культурным варварством, в этот прекрасный строй будущего перейти не получится. Путь к коммунизму победившему лежит через коммунизм борющийся.
Но даже саму возможность вступить в борьбу ещё надо заслужить. Переход от одной формы экономики к другой невозможен без создания в недрах старого общества определённых материальных предпосылок, на базисе которых и только и может возникнуть что-то более прогрессивное. Такие предпосылки есть и у коммунизма, правда, появились они очень поздно: лишь в ⅩⅨ веке вместе с возникновением крупной машинной промышленности, позволившей сконцентрировать производство в настолько огромных масштабах, что стало возможным полноценное удовлетворение всех потребностей общества. В этом же веке на историческую сцену выходит и тот самый общественный класс, который в силу своей коллективности и сознательности, единственный может обеспечить переход в это самое общество подлинной свободы, в котором он, став единственным классом на земле, перестанет существовать как класс и объемлет всю планету как сплочённое человечество.
Исходя из изложенного, можно было бы предположить, что первым свой путь к коммунизму должна была начать страна, являющиеся наиболее промышленно-развитым государством. Но случилось всё иначе. Первой на путь строительства коммунизма в 1917 году встала крестьянская, довольно тёмная и варварская Россия, в которой был очень слабый пролетариат и отсутствовало крупное промышленное производство. Случилось так, что политическая революция, произведённая буквально за несколько дней, создала политическую надстройку пролетарского государства, которая серьёзно опережала соответствующий этой надстройке социально-экономический базис. Малокультурная Россия стала первой страной, в которой началась борьба за коммунизм.
Россия вступила в этап коммунизма борющегося, который довольно-таки резко отличается от коммунизма победившего. Сломить сопротивление господствующих классов в условиях гражданской войны, неизбежно возникающей после любой социалистической революции, можно только путём установления жесточайшей сверхцентрализованной власти пролетарского авангарда, который с помощью террора, цензуры, полицейщины, всяческого подавления даже мыслей о возврате к старому, будет пробивать дорогу к свободному и справедливому обществу будущего. Без крайнего усиления рабочего государства на некоторый промежуток времени добиться отмены государства невозможно. Невозможно и сразу привлечь все массы к управлению государством, изначально таким сверхсильным аппаратом будет управлять лишь меньшинство, лишь наиболее передовая часть авангарда, которая порой будет иногда даже вынуждена принуждать наиболее отсталые слои собственного класса действовать так, как они из-за своего тёмного сознания не хотят.
Это довольно жестоко и отвратительно! — воскликнут защитники абстрактной демократии. Мы согласимся и признаём: винтовка, танк, бомба, ВЧК, НКВД, ОГПУ, Главлит, Главрепертком — это очень жестокие и отвратительные вещи, которые в руках капиталистов служат борьбе против рабочего движения. Но в наших руках — это священное оружие за освобождение, с помощью которого мы прокладываем себе дорогу к повсеместному уничтожению этих кровавых пережитков прошлого. Чтобы уничтожить автомат — нужно за него взяться!
И это не какие-то садистские мысли сталинистов — это общая истина для всех людей, которые именуют себя марксистами. Вспомните, что Лев Троцкий писал в своей лучшей работе «Терроризм и коммунизм»: «государство — это лампа: перед потуханием она переживает самую большую вспышку света
». Вспомните, что Георгий Плеханов призывал каждого «научиться владеть оружием
». Вспомните, что Анатолий Луначарский считал, что «на первых порах необходимо усилить в обществе дух дисциплины, милитаризма и диктатуры государственной власти
». Каждый революционер понимает эту тяжёлую истину, каждый солдат революции со скорбью на сердце вынужденно принимает эту тяжёлую мораль о том, что на пути к прекрасному идеалу от него необходимо отступать, иначе твои враги, противоположные этому идеалу, перережут тебе глотку.
Этого не понимают лишь обыватели, всякие сознательные мещане из мира социализма, которые кричат, что «средства должны быть достойны величия цели». Они не могут допустить коммунизм борющийся, они хотят постепенно перейти из капиталистической стабильности в стабильность коммунистическую. Такие люди обречены историей на вечное прозябание в потоке своих мечтаний. На реальность такими методами они воздействовать никогда не смогут. Они своей пассивностью и сопротивлением всякому злу будут только отталкивать приход нового и прогрессивного. Они, веря в величие средств, будут врагами великой цели.
Во время Гражданской войны такие люди — истинные социалисты — оказывались в белых армиях и белых министерствах. Эти европейские социал-демократы посылали целые армии, чтобы загубить большевизм, посмевший идти к коммунизму через террор и подавление контрреволюционных элементов в интересах (пусть ещё и не совсем осознанных) подавляющего большинства общества. Правые социал-демократы своим милитаризмом во время империалистической войны и своим агрессивным пацифизмом во время гражданской войны навеки пригвоздили себя к позорному столбу истории, от которого их не смогут оттащить ни одна книга, ни одна молитва.
Гораздо в более интересную полемику с большевиками вступило левое крыло Второго Интернационала. Сторонники Юлия Мартова и Карла Каутского соглашались с тем утверждением Маркса, что «насилие является повивальной бабкой всякого старого общества
». Однако они задавали встреченный вопрос: «хороша ли будет та акушерка, которая начнёт доставать ребёнка на седьмом месяце беременности?
». Намёк понятен: в отсталой и дикой стране, в которой ещё не созрели материальные предпосылки социализма, в которой ещё слабо развиты пролетариат и средства производства, в которой у рабочего класса отсутствует культура, может родиться только недоношенный (так говорили самые левые из социал-демократов) или даже мертворождённый ребёнок. Большинство меньшевиков и немецких независимцев были уверены именно во втором исходе, поэтому с самого начала объявили Октябрьскую революцию вредной и провальной, поэтому с самого начала они отказались от любых попыток помочь ей победить врагов народа.
Но почему большинство из левого крыла меньшевистского марксизма примкнуло именно к такой пассивной точки зрения, что пациент скорее мёртв, что спасать не нужно? Потому что такова сущность меньшевистского марксизма, который в центр своего мироздания ставит глухую и прямую зависимость политической и культурной надстройки от общественно-экономического базиса, забывая про письма Фридриха Энгельса об историческом материализме, в которых прямо говорилось о возможности обратного влияния. Меньшевистский детерминизм отвергал творческое начало, возможность внести изменения в ситуацию путём активного участия в общественном движении. «Силы истории всё сделают за нас — их опережать нельзя, ибо история за это отомстит
» — таков их лозунг. Такими были Плеханов и Каутский все свои последние годы.
Однако самые левые из меньшевиков всё-таки сказали правильно: Октябрьская революция родила действительно недоношенного ребёнка. Слабый пролетариат прорвал корку в том месте, где она была наиболее тонкой и завладел огромной крестьянской и мелкобуржуазной страной, в которой социально-экономический базис не совпадал с политической надстройкой, выраженной в Советской Социалистической республике, в диктатуре пролетариата и в руководящей роли Коммунистической партии. Ещё более не соответствовал коммунизму крайне слабый уровень культурных знаний народа, без которых никакое свободное общество невозможно. В своей огромной сельской массе народ не понимал на подлинно научном и осмысленном уровне, чего же всё-таки хочет добиться партия большевиков, не хотел сам активно участвовать в построении этого нового мира и очень часто делал это только по указанию сверху. Естественно, что это не отменяет наличия передового актива в деревне, который действительно все наши цели осознал и понял, но вспомните сами любую свою родную деревню — такой актив там составлял максимум 10—20 % от всего населения.
Однако такое явление было следствием именно недоношенности, а не изначальной мертвенности советского общества, всё это можно было исправить, особенно при помощи партии большевиков, которая тем и отличалась ото всех остальных политических сил, что в центр своего миросозерцания ставила творческую активность масс. Чтобы достичь осуществлённого социализма — первой фазы коммунизма, РСФСР (а с 1922 года СССР) нужно было выполнить три задачи: во-первых, отбиться от белых и от вооружённых интервентов, во-вторых, подвести социально-экономический базис под требования политической надстройки, в-третьих, на базе построенной социалистической экономики колоссально поднять культуру масс, которая бы зацементировала политическую надстройку и позволила бы широчайшим слоям населения влиться в неё и, как следствие этого, позволила бы достичь полного социализма, в котором более нет классов, а государство нужно только для защиты границ от капиталистического окружения. На третьем этапе и был бы возможен уже полноценный переход из коммунизма борющегося в коммунизм победивший, где более не нужны были бы цензура, насилие, репрессии и прочие омерзительные гадости старого общества.
И партия коммунистов начала эти задачи решать, начала лечить и лелеять своего недоношенного ребёнка, дабы вырастить его очень сильным и здоровым. За пять лет была с лихвой выполнена первая задача — одержана победа в Гражданской войне. Предстояло решить вторую задачу — построить крупную машинную промышленность (провести индустриализацию) и организовать создание крестьянских кооперативов (колхозных хозяйств). И вот тут-то в середине 1920‑х годов многие проницательные большевики (в их числе был и товарищ Сталин) заметили, что без широкого давления со стороны образованных культурных масс, без развитого в обществе духа культуры, науки, искусства (имеющегося у всех, а не только у больших городов и узкой группы пролетарской интеллигенции), небольшая группа пролетарского авангарда, работающего в сфере политической надстройки (государственного, хозяйственного, партийного аппаратов) имеет определённую тенденцию к обуржиазиванию и вырождению. Узкий характер политической надстройки, которая не включала в себя 90 % населения (ещё довольно безграмотного), формировала у этих чиновников в головах мелкобуржуазную и буржуазную психологию, враждебную рабочему классу. Постепенно часть таких людей старалась вообще обособиться от масс в своих кабинетах и начинала наживать себе состояние. Постепенно они стали находить для себя вполне приемлемым тот довольно шероховатый и скрипучий строй коммунизма борющегося и в ответ на тенденцию к его ликвидации выдвинули противоположную тенденцию его консервации и бюрократизации, стали замыкаться в себе и отрываться от масс.
Одним из первых такую тенденцию увидел в 1921 году народный комиссар просвещения Анатолий Луначарский. Давайте дадим ему высказаться в нашем материале:
«Человек, который скажет: „долой все эти предрассудки о свободе слова, нашему коммунистическому строю соответствует государственное руководство литературой, цензура есть не ужасная черта переходного времени, а нечто присущее упорядоченной, социализированной социалистической жизни“,— тот, кто сделает из этого вывод, что самая критика должна превратиться в своего рода донос или в пригонку художественных произведений на примитивно революционные колодки, тот покажет только, что под коммунистом у него, если его немного потереть, в сущности, сидит Держиморда и что, сколько-нибудь подойдя к власти, он ничего другого из неё не взял, как удовольствие куражиться, самодурствовать и в особенности тащить и не пущать…
Эти симптомы, конечно, есть у нас, не может их не быть,— слишком мы мало культурный народ.
Угроза превращения сильной пролетарской власти в младших агентах и случайных выразителях в полицейщину, в аракчеевщину имеется налицо, и надо её всячески избегать.
Народный комиссариат по просвещению будет на страже принципиального отношения к искусству, он будет бороться против некоторых медведей, которые тоже берутся гнуть дуги, против некоторых обезьян, которые тоже надевают очки для того, чтобы рассмотреть контрреволюцию, иногда надевая их на хвост.
Переходное время есть переходное время. Не надо нетерпеливо отмахиваться от тех его сторон, которые в нём неизбежны, которые являются путями к лучшему будущему, но не надо эти стороны, часто горькие, превращать чуть не в источник удовольствия, чуть не в самоцель».
К подобной же мысли очень часто приходил и Иосиф Сталин. Прочитайте, что он сказал в своей речи на Ⅷ съезде ВЛКСМ в 1928 году:
«Одним из жесточайших врагов нашего продвижения вперёд является бюрократизм. Он живёт во всех наших организациях — и в партийных, и в комсомольских, и в профессиональных, и в хозяйственных. Когда говорят о бюрократах, обычно указывают пальцем на старых беспартийных чиновников, изображаемых у нас обычно в карикатурах в виде людей в очках. Это не вполне правильно, товарищи. Если бы дело шло только о старых бюрократах, борьба с бюрократизмом была бы самым лёгким делом. Беда в том, что дело не в старых бюрократах. Дело, товарищи, в новых бюрократах, дело в бюрократах, сочувствующих Советской власти, наконец, дело в бюрократах из коммунистов. Коммунист-бюрократ — самый опасный тип бюрократа. Почему? Потому, что он маскирует свой бюрократизм званием члена партии. А таких коммунистических бюрократов у нас, к сожалению, немало».
В чём заключалась проблема? В том, что абсолютно неизбежная и необходимая очень сильная и очень централизованная пролетарская власть переходного периода, принадлежащая маленькому авангарду людей в силу отсутствия у широких масс развитой политической и духовной культуры, в силу слабости их классового сознания имела тенденцию от этих масс отрываться и стремиться к установлению своей собственной узкой диктатуры над массами, стремилась сохранить от строящегося социализма только его временные инструменты вроде цензуры и полицейщины. Всё остальное человеческое им было чуждо. У этих людей выражались явные капиталистические замашки, и всё это явление тоже было своеобразным следствием той болезни, которая возникла у недоношенного ребёнка. И если товарищ Сталин не шёл в своих выводах до конца (его большая ошибка), что подобные тенденции могут возобладать полностью и превратить социализм в абсолютно диктаторский государственный капитализм, то Анатолий Луначарский в своей статье «Свобода книги и революция» такой вывод делает прямо.
А в чём было спасение? Ответ дал ещё Владимир Ильич, сказавший, что «каждая домохозяйка должна научиться управлять государством
», что широкие народные массы должны войти в государственный аппарат и сломить его узость. Одним словом, он говорил о крайней важности решить третью задачу, которая и смогла бы сохранить политическая надстройку в руках пролетариата. Но проблема заключалась в том, что без развитой экономики, без крупной машинной промышленности, без решения второй задачи — третью задачу решить тоже было нельзя. Нельзя выделить огромное количество ресурсов на развитие культуры, если у тебя этих ресурсов нет. Именно поэтому в конце 1920‑х годов все временно забыли про эту главную задачу и бросились решать вопрос о развитии в стране промышленности.
Этому же серьёзно способствовала надвигающееся угроза мировой войны, которая требовала от государства Советов пробежать за десять лет тот путь, который иные страны прошли за столетия. Ради спасения пролетарского государства нужно было бросить все силы именно в максимальное поднятие производительных сил, в создание новых средств производства, в постройку абсолютно ненужных при коммунизме танков и винтовок. Ради этого спасения требовалась такая же жестокая консолидация и централизация власти в узких руках, как и во время Гражданской войны. Пролетарское государство усилилось ещё сильнее, ещё мощнее напрягало свои титанические рабочие мускулы, ещё жёстче карало спекулянтов, провокаторов и поджигателей. Вместе с тем культурным вопросам уделялось второстепенное внимание, поднятие политического самосознания масс происходило крайне медленно, по-прежнему только небольшой передовой актив реально осознавал то, что происходит в стране, понимал конечную цель борьбы партии большевиков. Такая ситуация прекрасно содействовала тому, что в мозгу государства советов, в его хозяйственном аппарате бюрократическая опухоль стала расти ещё быстрее. Оторванность многих наркоматов, многих промышленных комитетов от масс стала достигать колоссальных размеров. Но иначе было нельзя — впереди была самая страшная (пока что) мировая война в истории человечества. Медленный и спокойный курс, предложенный Николаем Бухариным, конечно был более целесообразным с точки зрения препятствования бюрократическому и капиталистическому перерождению крохотного аппарата, но в условиях надвигающийся войны он совершенно никуда не годился. А не было бы угрозы новой интервенции, была бы Европа красной — я уверен, что партия поддержала бы план Николая Ивановича (в части промышленности, а не сельского хозяйства, где с его кулачеством мы согласиться никак не можем).
К 1936 году героическому советскому народу удалось выполнить и вторую задачу — построить крупную машинную промышленность, создать соответствующий материальный базис для социализма. Две задачи из трёх были успешно решены (как у вас там дела, господин-товарищ Мартов?). Ребёнок стремительно шёл на полное выздоровление. Самое время было теперь приступить к реализации третьей задачи по формированию у масс широкой культуры участия в жизни советского государства. Самое время было вышибить всех выродившихся бюрократов из кремлёвских и министерских кабинетов. Но всё же опасность войны давала о себе знать — и все силы на культурный фронт бросать не стали, руководство страны продолжило ставить в качестве своего приоритета вторую задачу — по расширению и укреплению материального базиса. Культура трудящихся поднималась очень-очень медленно. Во многих сёлах и деревнях положение по-прежнему оставалось катастрофическим. А вот число новой буржуазии продолжало стремительно расти из-за вот такой вот сверхцентрализации без сдержек со стороны пролетариата. Ситуация становилась критической, надо было что-то делать и возвращаться к вопросу, постановленному в 1920‑х, к вопросу о борьбе с этими сторонниками диктатуры ради диктатуры, цензуры ради цензуры, власти ради власти.
Партия, руководимая моральным авторитетом Иосифа Сталина, тоже прекрасно понимала опасность подобных врагов внутри армейского, государственного, хозяйственного секторов. С ними нужно было бороться, их нужно было вычищать, сажать, расстреливать. Понимание проблемы было — испортила все реализация. Партия большевиков сделала огромную глупость, доверив проведение операции против контрреволюции в партии, государстве, армии и хозяйстве — самой забюрократизированной и контрреволюционной структуре советского государства — Народному Комиссариату Внутренних Дел, органу, в котором сидело наибольшее число сторонников идеи диктатуры ради личного обогащения, сторонников государственного капитализма. Репрессии сверху, со стороны аппарата, возглавляемого сначала Ягодой, а потом и Ежовым, посыпались совершенно вразнобой — доставалось и откровенным врагам революции, и честным коммунистам, и мещанам, и даже рабочим. Вместо того чтобы вовлечь широкие народные массы в борьбу с буржуазной бюрократией, вместо того чтобы развернуть широчайший контроль и репрессии снизу, партия бросила в «последний и решительный бой» на борьбу против перерожденцев их самое любимое осиное гнездо. Вместо того, чтобы скорее направить все силы на поднятие сознательности масс, решено было направить энергию на ложный путь развития эволюции. Получилось всё отвратительно: бюрократизацию не только не остановили, а местами усилили, часть людей даже испугали, а исправить ничего не успели, ибо на пороге уже была Вторая мировая война. Хотя можно было признать хотя бы ошибки и реабилитировать настоящих коммунистов. Перед нами наглядный пример того, что делать нельзя.
Великая Отечественная Война в нашей истории трижды сыграла отрицательную роль, ибо, во-первых, продолжила процесс сверхцентрализации пролетарского авангарда (в этом нет ничего плохого при правильном подходе!) без всякого контроля со стороны широких масс, во-вторых, заставила нашу страну вновь (в 1941—1945) сконцентрироваться на решении первой задачи (отбиться от врагов) и (в 1945—1955) на решении второй задачи (привести средства производства в соответствие с политической надстройкой), в-третьих, привела к гибели огромного количества пламенных коммунистов и комсомольцев, которые могли бы возглавить процессы борьбы с дальнейшим усилением капиталистических тенденций в руководстве страны.
Все эти факты очень сильно помогли тому, что контрреволюция одержала свою пиррову победу в 1956 году (хотя сам процесс длился с 1953 по 1961) и вместо социализма установить кровавый режим государственного капитализма, который принял ужаснейшие инструменты борьбы за коммунизм не в качестве своего метода, а в качестве своей самоцели. Проблема социалистического строя заключалась в том, что он слишком долго тянул с решением культурного вопроса, с вовлечением всех масс в политику, науку и искусство. Он тянул с этим настолько долго, что без воздействия со стороны образованного пролетариата представители политической надстройки просто окончательно выродились и установили власть своей узкой клики (оставив однако для обмана народа саму внешнюю красивую красную политическую оболочку). Единственная возможность, когда у страны Советов был реальный шанс хоть как-то исправить ситуацию на культурном фронте — это был конец 1930‑х годов, но тогда была совершена совершенно непозволительно глупая ошибка, и всё движение вперёд остановилось. Это очень обидный, но в тоже время очень важный урок для нас. Даже если мы выполним две из трёх задач, всё равно всё может рухнуть. Надо отрабатывать до конца: на одном крыле, на одной промышленности вперёд не улетишь, нужно заниматься и вторым крылом — образованием, культурой, этикой, эстетикой, словом, колоссальным подъёмом масс наверх из гнёта нищеты, темноты, косности, религии и прочих гадостей прошлого. Социализм немыслим без высшего образования у каждого его строителя.
Карл Каутский когда-то говорил про эволюцию взглядов Карла Маркса на диктатуру пролетариата: сначала у него был более якобинский подход, который подразумевал революционную диктатуру меньшинства при пассивной поддержке большинства, но затем Маркс пришёл к выводу, что с самого начала должна быть диктатура абсолютного большинства, которая практически сразу станет полным большинством и от того перестанет быть диктатурой. С этим противопоставлением раннего Маркса позднему Марксу можно долго и упорно спорить, но одно тут верно: большевики должны были пройти такую же эволюцию, должны были превратить своего слабого, рождённого на седьмом месяце, ребёнка в сильного и полноценного эллинского атлета. Атлет скончался в 39 лет на пороге самого расцвета сил. О том, как он умирал,— об этом можно прочитать у Вилли Дикхута в книге «Реставрация капитализма в СССР».
Недоношенность не означает мертворождённость. Это означает, что нам нужно найти лишь определённые рецепты лечения человека и превращения его в сильную и гармоничную личность. Пока что такие методы лечения не были найдены в полной мере. Попытка пролетарской Албании полностью копировать советский путь со всеми его ошибками (в том числе и в вопросе о культуре и бюрократизации) привели к тому, что в 1978 году её система выродилась окончательно. Попытки рабочего класса Китая нам импонируют в гораздо большей степени. Великая Пролетарская культурная революция постаралась исправить ту ошибку борьбы с бюрократией сверху путём широчайшего вовлечения трудящихся масс в бой с капиталистической реставрацией. Вместо контроля сверху со стороны силовых министерств — настоящая и живая народная энергия, сбивающая всех врагов нового строя с тронов в партии и государстве. Это соответствует духу коммунизма в гораздо большей степени, это есть подлинный путь (или предтеча подлинного пути) к решению третьей задачи — к вливанию масс в государство, которое, став выражение воли всех масс, отомрёт и откроет путь к блистательному обществу победившего коммунизма.
И хотя ВПКР также потерпела неудачу, и хотя в КНР в 1978 году также к власти пришло правое крыло, культурная революция потерпела поражение не по стратегическим причинам, а в силу ряда тактических ошибок (она, например, не затронула армию), которые обязательно будут исправлены в будущем, в той замечательной стране, рабочий класс которой совершит в ⅩⅩⅠ веке — самую грандиозную революцию в мировой истории.
Эта революция вберёт в себя и передовой опыт Советского Союза, который прекрасно показал, как решать задачи победы в войне и в строительстве, но не смог достичь успеха в повышении политической культуры масс (а рабочий класс Китая, наоборот, допустил ряд ошибок в промышленном строительстве). Однако никакие ошибки СССР не позволят реакционерам обмануть рабочих и облить грязью весь период диктатуры пролетариата. Рабочие будут любить его всем сердцем и изо всех сил стараться превзойти достижения той грандиозной эпохи.
Пусть буржуазные историки-метафизики, пусть школы и университеты, СМИ и телевиденье выставляют нам тёмные стороны коммунизма борющегося как истинный коммунизм победивший, пусть они возносят на пьедесталы и сами используют в своём белом терроре ошибки нашего любимого государства, пусть они игнорируют его грандиозные достижения в интересах трудящихся, пусть они игнорируют, что всю свою жизнь и Ленин, и Сталин, и Луначарский, и Молотов, и Калинин, и Каганович, и Дзержинский, и Менжинский боролись за победу коммунизма настоящего — боролись за победу бесклассового общества, в котором свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех. Надвигающееся столетие Советского Союза нанесёт смертельный удар по подобной реакционной пропаганде всех твердолобых сторонников капитализма.
Столетие Советского Союза — это прекрасный повод донести до масс, страдающих под гнётом нищеты и бесправия, все достижения, но также и все критически (марксистски) усвоенные ошибки СССР. Мы должны быть свободны не только от буржуазных, но и от ревизионистских мифов. Мы должны говорить правду о том, что было и о том, что будет. Только тогда пролетарий нас поддержит и с оружием в руках завоюет весь мир.
Примечания
 Мне было страшно писать это предисловие. Всё-таки «Чёрная книга Арды» была или есть в разное время культовой для огромного числа толкиенистов. И для меня в том числе. В семнадцать лет я прочитала — и, не будучи оригинальной, заболела нездешними пейзажами и цветами, причудливыми ледяными узорами дворцов, морозными туманами гор, пыльным серебром полынных дорог.
Мне было страшно писать это предисловие. Всё-таки «Чёрная книга Арды» была или есть в разное время культовой для огромного числа толкиенистов. И для меня в том числе. В семнадцать лет я прочитала — и, не будучи оригинальной, заболела нездешними пейзажами и цветами, причудливыми ледяными узорами дворцов, морозными туманами гор, пыльным серебром полынных дорог.