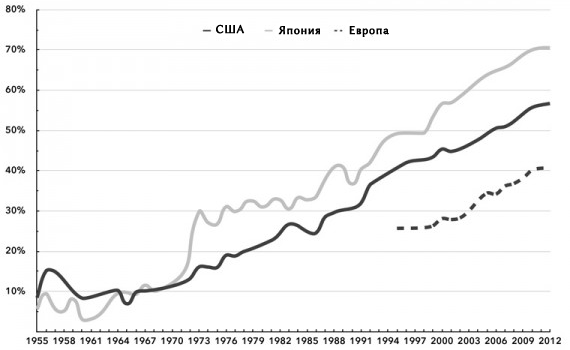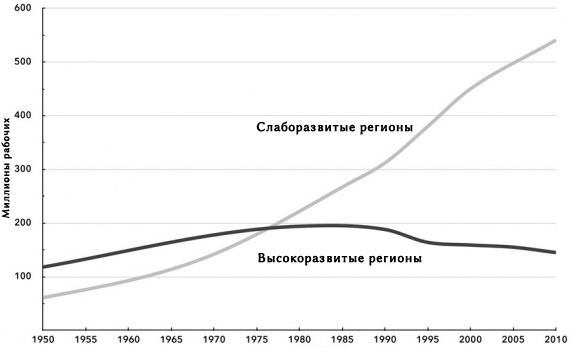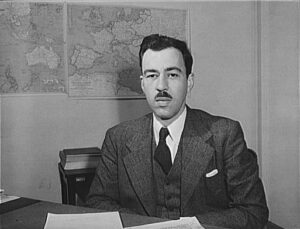Идейно-политическая сущность маоизма.— М.: «Наука», 1977.
Эта небольшая подборка цитат и комментариев не претендует считаться рецензией или серьёзным критически разбором. Это просто фрагмент из легковесной переписки начала века, но, возможно, представляющий хотя бы небольшой интерес.
«Идейное и социально-психологическое влияние традиций на [Мао и его последователей] определялось прежде всего тем, что социальная структура китайского общества в первой половине ⅩⅩ в. менялась медленно, что способствовало сохранению конфуцианско-легистского и даосского воздействия на китайское общество».
«…Маоисты думают и действуют в духе китайской традиции, бессознательно… …Они нередко преднамеренно используют традиционную общественную мысль и привычки. О последнем говорит периодически появляющаяся на страницах китайской печати установка „использовать древность для современности“».
Прикол тут в том, что в предыдущей главе Мао Цзэдуну пеняли тем, что в оригинальном тексте выступлений на совещании по вопросам литературы и искусства в мае 1942 г. он призывал новую культуру не наследовать «художественные произведения прошлого
», а всего лишь использовать их как «
подспорье
»! Советские ревизионисты сами были конфуцианцами.
«Мао Цзэ-дун и его последователи, принадлежащие к старшему поколению, получили китайское классическое образование и воспитание, основанное на старой китайской традиции».
А то Ленин не в царской гимназии с Законом Божьим учился! Мы привыкли не видеть в этом ничего особенного — и в этом нет ничего особенного! — но страницы ленинских работ пестрят библейскими аллюзиями и цитатами! Чтобы понять, насколько похабно это обвинение, перенесём его в другое место и время: «Карл Маркс вырос в еврейской семье и был старым иудеем
».
«Определённое воздействие на взгляды Мао Цзэ-дуна оказала также китайская классическая художественная литература, особенно средневековые китайские романы „Троецарствие“, „Речные заводи“, „Путешествие на Запад“ и др.».
Чувствовалось, что в этом месте авторы тужились, дабы сказать гадость, но не смогли.
«Большинство исследователей, занимающихся изучением идейных истоков маоизма, считает, что конфуцианство оказало на маоизм значительное влияние… Основная идея, пронизывающая конфуцианское учение…, заключалась в обязательном, беспрекословном повиновении и подчинении младших старшим, нижестоящих вышестоящим…».
«Сам Мао Цзэ-дун гораздо чаще высказывался о конфуцианстве положительно, нежели критиковал его».
Это, однако, наглая ложь.
«Легизм исходил из того, что главное средство управления государством, народом и народами — насилие. Закон, рассматриваемый легистами как важнейшее средство политического господства, был для них выражением насилия. Одновременно легисты отрицали всякую мораль, т. е. их закон был аморален».
Ай-ай-ай, какие нехорошие легисты! Прямо ленинисты какие-то!
«Именно гносеологическая традиция даосизма с её представлениями об извечном раскалывании мира на противоположности и их взаимном превращении друг в друга прослеживается в заявлениях маоистов о вечности и неизбежности революций, политики, классовой борьбы, войн и т. д.».
Разве в брежневском СССР такое было уже пристойно писать?
«Именно даосский гносеологический стереотип лежит в основе столь наивного и нелепого с марксистской точки зрения утверждения Мао Цзэ-дуна о том, что… „
Война переходит в мир, мир переходит в войну. Мир является обратной стороной войны. Когда не ведутся военные действия — это мир… Война — это специфическая форма политики. Это продолжение политики; политика — это тоже своего рода война“».
Брежневские писаки опять не узнали пересказа Ленина!
«В 1955 г. Мао Цзэ-дун утверждал, например, что китайское крестьянство якобы „превосходит“ по своим революционным качествам советский, европейский и американский рабочий класс [см. 218]».
Издеваются над советским читателем. Ибо 218 — это запрятанный в закрытых фондах сборник «Мао Цзэ-дун сысян ваньсуй». Поди-ка, см.!1
«Чан Кай-ши считал захватническую политику китайских императоров в Азии „спасением“ азиатских народов и „помощью слабым“».
При всей неприязни к Чан Кайши, он тут ничем не хуже брежневских идеологов, аналогично обелявших политику царизма.
«Хунвэйбины совершали „культурную революцию» под анархистскими лозунгами — „свергать всё“, „отрицать всё“, „сомневаться во всём“».
«Подвергай всё сомнению
» — это был личный лозунг Маркса.
«Само собой разумеется, что маоистская теория перманентной революции называлась в китайской печати марксистско-ленинской… Разумеется, между социализмом и коммунизмом нет и не может быть „великой стены“, но переход от социализма к коммунизму никакого отношения к перманентной революции не имеет».
Разумеется, брежневским идеологам незнакома марксистская теория непрерывной революции.
«Маоисты сделали новый шаг в сближении с троцкизмом, когда Мао Цзэ-дун выступил в 1962 г. с тезисом „о продолжении революции при диктатуре пролетариата“. Подобно троцкистам, они стали заявлять, что в социалистическом обществе продолжают существовать антагонистические классы — пролетариат и буржуазия — и идёт классовая борьба между ними…».
Здрасьте, пожалуйста! Троцкисты ничего подобного не признают!
«Троцкистско-маоистская теория перманентной революции связана с разделяемым как троцкизмом, так и маоизмом тезисом об опасности буржуазного перерождения социалистического общества».
Какое шапкозакидательство!
…Ой, какая прелесть!
«Может быть, кто-нибудь думает,— говорил М. А. Суслов,— что китайская теория о районах Азии, Африки и Латинской Америки как „
главной зоне бурь мировой революции“ — это оригинальное сочинение? Нет, это почти дословное повторение одного из основных тезисов нынешнего троцкизма. В решениях так называемого Ⅳ (троцкистского) Интернационала можно прочитать, что „главный центр мировой революции переносится на время в колониальный мир“»2.
«О том, каково отношение маоистов к этим трудам в действительности, говорит высказывание Линь Бяо, сделанное им во время „культурной революции“: „
Изучать марксизм-ленинизм надо, изучая, однако, на 99 % труды товарища Мао Цзэ-дуна и на 1 % труды других классиков марксизма-ленинизма“».
О том, что сам Мао этот лозунг жёстко отверг, они, конечно, умалчивают.
«…Маоисты… утверждали, что исходя из общефилософских принципов можно успешно решать практические вопросы, вплоть до лечения глухонемых».
Ой, да кто бы говорил! Именно так утверждал советский философ-антимаоист Ильенков.
«Ректор Сианьского университета Чэнь Кан, например, как сообщала хунвэйбиновская печать, заявил по поводу кампании за изучение философии Мао с целью получения „немедленных и ощутимых результатов“: „Если я не умею и не могу взобраться на шест, то от того, что мне прочитают несколько цитат председателя Мао, на шест я все равно не залезу“».
Я так понимаю, на шест его всё-таки загнали.
«Шестью годами позже Мао высказывается следующим образом: „Не следует читать слишком много. Книги Маркса читать нужно, но не слишком много. Достаточно нескольких десятков томов…“».
Сплошное «гы!».
…Мао вместо Кондратьева:
«Чтобы оправдать как-то перед партией и своим народом глубокие провалы в экономике, маоистское руководство ухватилось за „идею“ „периодического закона“ в экономике. Потом его называли „законом“ „седлообразного“, „волнообразного“ и даже „неравномерного“ развития. К этому „закону“ Мао возвращался много раз. „
В ходе социалистического строительства,— говорил он в апреле 1959 г.,—надо разбираться в вопросах волнообразного развития… Любое движение развивается волнообразно, он (т. е. «закон».— Авт.) существует объективно и не зависит от воли людей“».
«Любое выражение идей гуманизма вызывало у маоистов приступ злобы и немедленно клеймилось и преследовалось самым жестоким образом. Призыв к „человеческому отношению к человеку“ осуждался как „реакционный“. Гуманизм маоисты называют буржуазной идеологией, реакционным идеологическим оружием».
«Одна из функций работников умственного труда — организация и руководство производственной деятельностью работников физического труда, без чего невозможно развитие крупного современного производства и при капитализме, и при социализме. И при коммунизме будут выдающиеся организаторы и руководители производства — необходимость этого вызывается огромной концентрацией и централизацией производственных процессов, хотя физический труд в современном его понимании в коммунистическом обществе исчезнет».
Ага, профессиональные директора! И профессиональные тачечники, только что без тачек.
«Маоизм рассматривает взаимоотношения между работниками умственного и физического труда только с позиции „классового“ подчинения и бюрократической иерархии — одни „верховодят“, другие „страдают“ от этого; вывод: чтобы работники умственного труда не „верховодили“, их надо заставить заниматься физическим трудом».
«В китайской печати и хунвэйбиновских листовках можно было прочитать такие утверждения: „Победившему пролетариату не нужны профессиональные писатели, артисты, композиторы и художники; ему нужны наполовину писатели — наполовину рабочие, наполовину артисты — наполовину солдаты, наполовину художники — наполовину крестьяне“».
А хорошо, чёрт возьми!
Примечания- Теперь, в отличие от советских времён и даже времени написания этих заметок, хунвэйбинский сборник нам доступен — но это, чёрт возьми, здоровенный пятитомник на китайском языке и поди сыщи в нём одну фразу, известную только в пересказе на русский и неизвестно вообще, присутствующую ли там.— Маоизм.ру.↩
- Суслов М. А. Избранные речи и статьи.— М., 1972.— с. 380.— прим. в источнике.↩